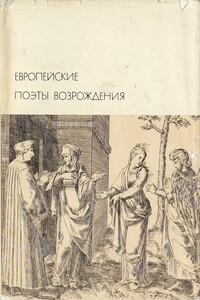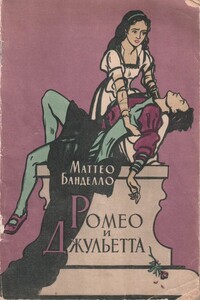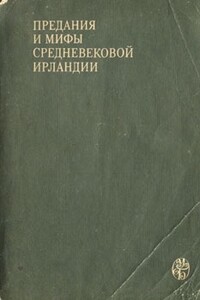Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков | страница 42
Волевой акт, по мысли Августина, лежит в основе возникновения мира (мир творится соизволением Творца), он же объясняет происхождение зла (злая воля ангелов) и служит причиной грехопадения Адама. Устремленность воли характеризует и человеческие общества в истории: общество, которое сообразуется в своих поступках с абсолютом, с вечной истиной, оценивается Августином как вечное, небесное, как «град божий». Общество, сообразующееся лишь само с собой, осуждается им как «земное», «гибнущее». При таком подходе несущественными делаются все племенные, географические, языковые различия, и идеальное государство описывается как правильный способ социальной жизни, эпизодически встречающийся в разные времена и у разных народов.
Авторитет веры и признание целесообразности мироустройства заставили Августина смотреть на историю как на постепенное развитие от зла к благу, от смерти к жизни, от бедственного состояния, вызванного преступлением первого человека, к идеальному, блаженному бытию, когда все человечество в совокупности составит единый «град божий». «Золотой век», который для древних лежал всегда где-то в прошлом, переносится Августином в будущее и становится для него не только благим обетованием, но и конкретной целью истории. Отличительной чертой идеального общества он называет соблюдение уже упоминавшейся иерархии ценностей, между вещами «для пользования» и вещами «для наслаждения». Иначе говоря, Августин предписывает строгое подчинение всей практической жизни общества единому религиозному авторитету и реальную возможность осуществить этот идеал видит в церкви, в тех принципах, на которых зиждится ее устройство.
В творчестве Августина, таким образом, наметился широкий путь средневековой эстетики и философии. Язык его «Исповеди», классически правильный по грамматическим формам и прозрачно ясный по своему синтаксису, стал литературной нормой церковной латыни. Его учение об иносказаниях позволило средневековью аллегорически переосмыслить античную поэзию и мифологию (Фульгенций) и создать свою собственную сложную символику. Его призыв любить истину, а не слова, призыв искать в словах сокровенный смысл неоднократно повторялся в филологических трудах Беды, Алкуина, Храбана Мавра вплоть до Иоанна Скота Эриугены. Его концепция «небесного града» вошла неотъемлемой частью в духовный мир средневекового человека.
ИЗ КНИГИ „ИСПОВЕДЬ“
[МЛАДЕНЧЕСТВО]
I, 1. Велик и всеславен ты, Господи