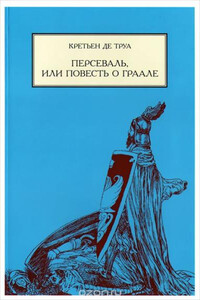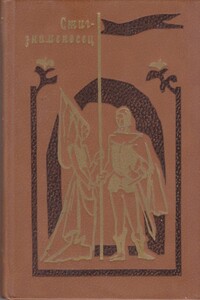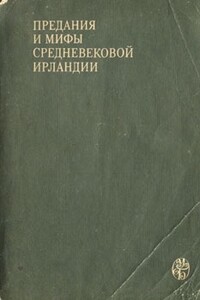Памятники средневековой латинской литературы IV-IX веков | страница 3
Первый вопрос — какую дату можно считать началом средних веков — наиболее просто разрешался в старых школьных учебниках: такой датой считался 476 г., когда германец Одоакр, командовавший западноримской армией (состоявшей в основном из наемных германцев различных племен), лишил императорской власти малолетнего императора Ромула Августула, сына другого военачальника, римлянина Ореста. Армия провозгласила Одоакра королем, однако титула римского императора он себе не присвоил, отослал от имени сената знаки императорского достоинства константинопольскому императору Зенону, а сам удовлетворился полученным от Зенона званием «римского патриция» и «блюстителя власти». В этом звании он управлял Италией до 493 г., когда был побежден и убит остготским королем Теодорихом, новым завоевателем Италии.
Итак, эта общепринятая дата — 476 год — отмечает только политический рубеж между древностью и средними веками: изменение формы верховной власти в западноримской империи, факт, конечно, не лишенный значения, но не раскрывающий тех коренных внутренних изменений, которые постепенно превращали западные римские провинции в средневековую Европу.
Самым глубоким, как бы подпочвенным слоем, в котором совершались важные изменения, был экономический уклад западноримской империи. Рабский труд уже в первые века н. э. стал менее продуктивным, менее выгодным для владельца и уступал место системе колоната. Резкие различия между рабами и колонами, особенно в сельском хозяйстве, стали стираться — многие рабы получали во владение небольшие земельные участки, а колоны, напротив, со времен Константина Великого были прикреплены к тем имениям, в которых они арендовали участки. В крупных земельных владениях постепенно совершался переход к натуральному хозяйству, вследствие ненадежности торговых сношений и трудности подвоза из дальних провинций. Процесс закрепощения проник и в город: члены городских советов (куриалы) потеряли право свободного выбора занятий и превратились в помощников императорских чиновников по сбору налогов, а ремесленники различных специальностей (пекари, плотники и пр.) оказались прочно приписаны к своим «коллегиям» — своеобразным цехам, или группам взаимопомощи.
Слабость центральной императорской власти уже с III в. повела к усилению власти крупных землевладельцев, бравших на себя и поставку рекрутов в армию, и сбор податей, а нередко и суд и расправу по своим местам. Таким образом, уже в недрах Римской империи исподволь слагалась новая экономическая система: феодальный строй. Рабовладельцы превращались в феодалов-крепостников, рабы — в «свободных» крепостных.