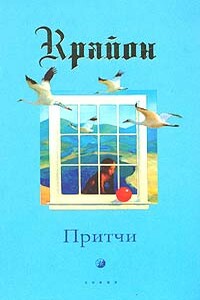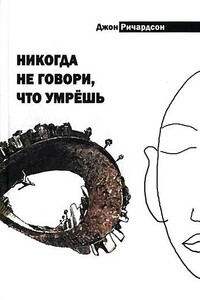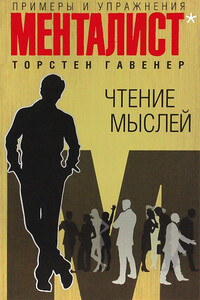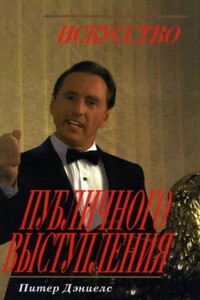Продавец парадигмы | страница 44
Но я, с большим интересом, прочту книгу о том, как человек поднял бизнес с нуля, боролся с трудностями и преуспел. А сегодня продает общественно полезного продукта на миллиарды долларов в год. Самое забавное, что приватизаторы не торопятся рассказывать свои истории, а если и рассказывают, то очень немного, скромно умалчивая о залоговых аукционах, откатах, и распиле бюджета.
Поэтому неудивительно, что на постсоветском пространстве, в народном сознании, уже не первое столетие царит «Идеал бедности». Простой человек, хочет максимально дистанцироваться от этой битвы за бюджетные миллиарды. Нормальным людям противно, и они просто не хотят мараться. Поэтому, для носителя постсоветской парадигмы, нищета – это предмет гордости. А для особо духовных, нищета, это в некотором роде, признак возвышенности и жертвенности. Только на постсоветском пространстве, работник культуры может нести свою бедность, так же гордо, как несут знамя. И его заокеанский коллега, этого никогда не поймёт. Конечно, скажет он, искусство требует жертв, но почему жертвой должен быть я? Поэтому, библиотекарь в Массачусетсе воспринимает свою работу, как хоть и благородный, но оплачиваемый труд, а библиотекарь в Урюпинске, исключительно как служения и миссию. Поскольку зарплата за его труды почти не предусматривается.
Если на постсоветском пространстве «Идеал бедности» цветет и пахнет, то он напрочь отсутствует в иудаизме и протестантизме. Для того чтобы увидеть разницу, посмотрите на страны, в которых большинство жителей исповедует протестантизм, с вытекающей из него «Протестантской трудовой этикой». Там, где с пелёнок учат, что богатство – это благословение Божие, и приходит как результат праведного и тяжёлого труда, это быстро сказывается на благосостоянии общества. В истории Европы, мы видим, что в период с XVII-XIX века в протестантских странах, например в Швейцарии, почти безраздельно господствовала «Протестантская трудовая этика». Через некоторое время после приезда Жана Кальвина в Женеву, экономическое состояние города стало стремительно улучшаться, а спустя десятилетия город сказочно разбогател.
Потому что проповедь Кальвина, в области «Трудовой этики» была весьма суровой. Трудись так же, как молишься, и будь кристально честен с партнёрами. Работай больше, отдыхай меньше, будь усерден и старателен. В общем как говорили древние римляне: «Ora et labora», – «Молись и трудись». Естественно, что такое отношение к труду и производству, не может не отразиться на благосостоянии социума. А там, где добавляют к этому, что торговля – это благословение Господне, как в Викторианской Англии, результат становится ещё более впечатляющим.