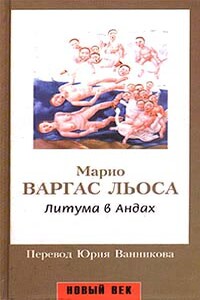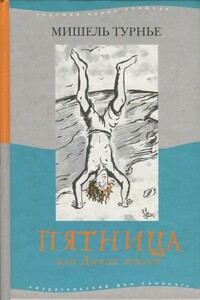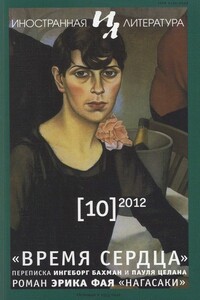Лесной царь | страница 32
Как раз певчие послужили для меня причиной некоторого потрясения, в самом метафизическом смысле, которое Нестор основательно высмеял, изрядно вправив мне мозги, в чем я насущно нуждался. Мне казалось само собой разумеющимся, что удостоиться столь великой чести, как петь в церкви, могут только лучшие из лучших, прилежнейшие из прилежных, столпы добродетели, почти святые. Однако выяснилось, что если добродетель и не служила препятствием при отборе достойных облечься в белый стихарь, то важнее все же были совсем иные качества. Истина оказалось столь постыдной, что святые отцы признались бы в ней разве что под пыткой. Дело в том, что в певчие отбирались одни красавчики. Понятно, что прилежные уродцы отметались сразу, но отбор на этом не заканчивался — его целью было подобрать смазливых мальчуганов на любой вкус: блондинов и брюнетов, худощавых и коренастых, розовощеких ангелочков и бледнолицых аскетов, изнуренных праведников и невинных резвунчиков.
Короче, Нестор открыл мне глаза. Он еще не раз обращался к данной теме, но главное, что мне запомнилось, это его упрек святым отцам (казалось бы, профессиональным наставникам юношества) в непонимании, что любой мальчик прекрасен лишь в той мере, в какой он принадлежит тебе, а принадлежит тебе он лишь в той мере, в какой ты ему служишь. Помещая мальчика Иисуса на свои плечи, Христофор одновременно Его похищал. В том и явилась вся благодать Христа, что Он это дозволил. Иисус был увлечен могучей силой, которая благоговейно, с великим трудом, поддерживала Его на поверхности бурных вод. Все же величие Христофора заключалось в том, что он стал одновременно и вьючной скотиной, и подобием дароносицы. Этот переход через реку сочетал в себе послушание с похищением. Разумеется, обязанности душеприказчика заставляют меня делать рассуждения Нестора более внятными и наделять страстью большей, чем он в них вкладывал, но точно помню его попытку разглядеть в маленьком певчем образ Иисуса и стремление повергнуть прелата к стопам своего служки.
Именно там, в «византийской» часовне, рок впервые явил себя, что послужило как бы генеральной репетицией разыгравшейся вскоре трагедии.
Я, как обычно, сидел в предпоследнем кресле ряда, а по левую от меня руку, у самого бокового прохода, который в этом месте становился совсем узким из-за выступавшей исповедальни, восседал Нестор. Необычным было новое соседство — по правую руку от меня уселся Бенуа Клеман, юный парижанин, которого родители «сослали» в Бовэ подальше от столичных соблазнов. Нас, провинциальных дикарей, он мгновенно покорил, демонстрируя одно за другим свои сокровища, вещицы одновременно мужественные и романтические — револьвер с барабаном, компас, нож с фиксатором, чертика в бутылке. Теперь я даже задаюсь вопросом — не у него ли Нестор выманил гироскоп, свое, как он его называл, «карманное совершенство»? Но несомненно, что между мальчиками зародилось сообщничество, если не дружба, что, по мнению Клемана, давало ему право на фамильярность по отношению к Нестору, которая меня весьма угнетала по двум причинам: во-первых, я попросту ревновал, а во-вторых, мне казалось, что она унижает моего друга. Они частенько о чем-то торговались, чем-то обменивались. Я не стремился участвовать в их делишках, убеждая себя, что Нестора интересуют только богатства Клемана, а стоит им иссякнуть, как он тут же потеряет к новичку интерес и поставит его на место.