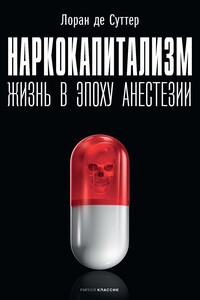Исчезающая теория. Книга о ключевых фигурах континентальной философии | страница 14
Второе новое обстоятельство заключается в том, что еще недавний проект будущего, о котором грезил постколониализм, ожидая падения «фаллоцентрической культуры» (что бы в нем под этим ни понимали), не смог предсказать логику нынешнего распределения установлений власти и оказываемых ей сопротивлений. Вместо прогрессивного краха разнообразных символических границ вместе с ожидаемым наступлением полного безразличия к задаваемым ими ограничениям, когда допустимы будут любые некриминальные вариации поведения – или же, напротив, консервативной катастрофы со схлопыванием поля возможностей (сценарий, которого интеллектуалы конца XX века опасались, но к которому были внутренне готовы), – образовалось нечто совершенно иное, непредсказуемое из более ранней точки. Выяснилось, что общественное поле может вместить сколько угодно практик, основанных на гетеротопии или прямом нарушении символического порядка, но это не означает ожидаемого размягчения установленных границ и повышения общей терпимости. Напротив, с увеличением количества вариаций общая тревога по их поводу только возрастает, захватывая и раскалывая в том числе самих сторонников прогрессивного расширения, что нередко заставляет их выносить суждения, сходные по акту высказывания с теми, что ранее и до сих пор прочитывались как чисто «консервативные». Выяснилось, что рост терпимости, действительно регистрируемый повсеместно, по крайней мере там, где над ее достижением планомерно работают, в то же время не имеет с показателями этой тревоги никаких прямых корреляций – последняя, невзирая на явные успехи активизма, лишь усиливается.
Тем самым для нынешней ситуации характерны не столько противостояние прогрессивной борьбы за безоговорочный допуск «иной нормы» и консервативной неуступчивости в этом плане, сколько увеличение эксцессов расщепления на этот счет с обеих сторон.
Сегодня это заставляет задать вопрос не столько о прогрессивности, сколько о самом существе акцента на практики, находящиеся за символической чертой нормативности. В 60–80-е годы этот акцент казался чуть ли не естественным, хотя сегодня преимущества выбора в его пользу уже не выглядят столь очевидными и сместились скорее в область социальной филантропии, предполагающей, что некоторые группы и их практики достойны правозащитного внимания более прочих уже потому, что жизнь их представителей осложнена заметнее и существеннее. Характерно, что за пределами большей или меньшей очевидности – например экономического порядка – никто не знает точно, какова степень этого осложнения и как должна быть распределена очередность в исправлении создавшегося в его свете положения.