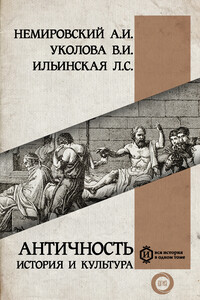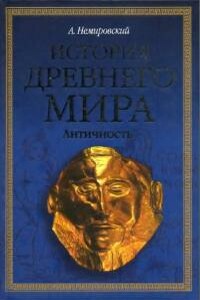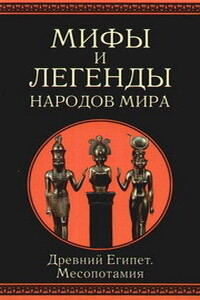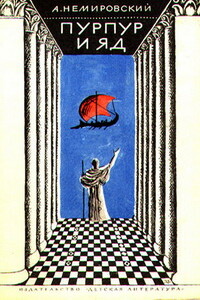«Римская история» Веллея Патеркула | страница 117
Между 1520 и 1932 гг. появилось 47 изданий «Римской истории»[586], в последующие годы — 5 новых изданий.
Комментирование текста Веллея является настолько сложной и трудоемкой работой, что занимавшиеся ею авторы диссертаций ограничивались комментариями к нескольким десяткам глав[587]. Объемистая книга А. Вудмена содержит детальный комментарий, но лишь к 94—131-й главам[588]. Обстоятельный комментарий ко всему труду, учитывающий всю проделанную работу над Веллеем, представил Ж. Эллегуар в своем образцовом издании «Римской истории». Вступительная статья, латинский текст, французский перевод, комменарии и указатель потребовали двух томов (468 стр.).
Наш перевод основывается на трех изданиях — стереотипном тойбнеровском Штегмана (1968), частичном издании Вудмена (1977), издании Эллегуара (1983). Мнения предшествующих издателей по поводу тех или иных сложных для понимания мест, приводимые в сносках к изданию Штегмана, также принимались во внимание. В некоторых случаях мы предлагаем собственное толкование текста, обычно же следуем за издателями, принимая или отвергая предлагаемые чтения.
М.Ф. Дашкова
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ «РИМСКОЙ ИСТОРИИ» ВЕЛЛЕЯ ПАТЕРКУЛА
Языку и стилю Веллея Патеркула исследователи всегда уделяли много внимания[589]. Едва ли не каждый раз при изложении истории римской литературы давалась его характеристика как писателя. Так, французский исследователь Е. Нажотт утверждал, что талант В. Патеркула нельзя оспаривать, но при этом отказывал ему в самостоятельности изысканий и ставил в вину поспешность работы. Это обстоятельство, по мнению Нажотта, отрицательно сказывалось на стиле писателя, порождая «обмолвки, общие места, неловкие выражения, периоды с избытком вводных предложений, повторение мыслей». Отмечая риторику, несколько изысканный колорит и искусственный жар, претенциозные соединения слов, Е. Нажотт подчеркивал и положительную сторону сочинения Веллея: «Принявшись вновь за работу старых летописцев, он обновил их приемы собственными рассуждениями и прекрасными портретами, придающими им жизнь. У него есть слова, сразу определяющие известный характер и положение и запечатляющие их в нашем уме. Он был удачным подражателем Саллюстия и сам не раз служил другим образцом»[590].
Исследователи середины XX в. проявляют более глубокий подход к творчеству В. Патеркула. В статье А. Диле, помещенной в "Paulys Realenencyclopädie der klassischen Altertumwissenschaft", отмечается, что Веллей как прозаик занимает среднее место между Цицероном и Сенекой, что свидетельствует как о стремлении к новому, так и об упорном постоянстве стиля, развившегося до классической высоты, подчеркивается, что в стилистическом использовании отдельных выражений Веллей является предшественником Сенеки и Тацита и что, подобно Сенеке, он способен придать мысли самую впечатляющую, по возможности построенную на антитезе форму, и, хотя в его текст временами вкрадывается определенная безвкусица, стремление к изобильной выразительности формулировок делает чтение расплывающихся периодов сносным и придает изображению оживляющий колорит. Стремление к четким формулировкам, по мнению А. Диле, характеризует прозу императорского периода и вошло на протяжении жизни поколений в практику преподавания риторики. Многие из подобных формулировок оттачивались, совершенствовались, выучивались, преобразовывались в литературном отношении и по-разному применялись авторами. В статье, в частности, сравнивается слог Веллея Патеркула и Саллюстия, отмечается, что оба автора любят антитезу, но у Саллюстия антитеза передает движение мысли, а у В. Патеркула она статична. Для сравнения сначала берется фраза из Саллюстия, в которой отражается движение мысли: «Volventes hostilia cadavera amicum alii pars hospitem aut cognatum reperiebat, fuere etiam qui inimicos suos cognoscerent. — Опознавая вражеские трупы, кто находил друга, кто гостя, кто родственника; были и те, кто узнавал своих врагов». (Cat., 61). Затем приводится отрывок из В. Патеркула: «Non… dubites,…quin magis pro re publica fuerit manere abhuc rudem Corinthiorum intellectum, quam in tantum ea intellegi, et quin hac prudentia illa imprudentia decori publico fuerit conventior. — У тебя не возникнет сомнения в том, что невежество такого рода было выгоднее государству благодаря сохранению памятников коринфского искусства, чем их понимание, и что образованность менее служит к украшению государства, чем прежняя необразованность» (I, 13, 5). Относительно этого отрывка делается такое заключение: здесь можно наблюдать только легкое варьирование мысли вместо ее движения; подобное явление отмечается у Сенеки, где в частых антитезах находит выражение сходная, иногда дополнительная, но очень редко новая мысль