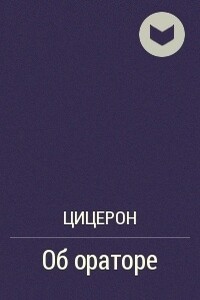О пределах добра и зла. Парадоксы стоиков | страница 14
Таким образом, решая вопрос о соотношении в трактате собственно «цицероновского» и того, что он почерпнул из греческих источников, вряд ли можно в каждом отдельном случае твердо устанавливать «первичность» того или другого. С одной стороны, ориентация Цицерона на Антиоха бесспорна, но с другой — близость его Цицерону определяется не в последнюю очередь собственными предпочтениями автора трактата. Римская тяга к «практической жизни», подкреплению теоретических постулатов их реализацией в общественной деятельности, римское стремление к иерархизации и формализации понятий делало академические теории наиболее приемлемыми и привлекательными. К тому же претензия Академии на объединение всех предшествующих школ и построение некой универсальной системы философского знания (в силу этого предельно эклектичного) прекрасно отвечало и желанию Цицерона представить себя носителем «всей мудрости древних», способным открыть и сообщить ее своим римским читателям. Иными словами, Цицерон выбирает из греческого наследия именно то, что хочет выбрать.
При этом вне всякого сомнения истинно «цицероновским» можно считать и риторическое оформление трактата. Строя его как последовательное чередование положительного изложения того или иного учения и его опровержения, он не просто следует системе философской аргументации тех же академиков. Здесь прослеживается и очевидно риторическая подоплека — практика так называемых двойных речей, идущая еще от софистов, популярная в Академии (известно, что именно такую «парную речь» произнес во время знаменитого «философского посольства» в Рим Карнеад в 155 г.) и постепенно ставшая одним из расхожих приемов воспитания оратора, когда ему предписывалось произносить две речи с противоположным содержанием. Такая форма для Цицерона являлась идеальным воплощением его идеи соединения риторики и философии, с одной стороны, и поводом продемонстрировать искусство собственного слова — с другой. В этом смысле фраза Цицерона: «Я подчиняюсь твоему желанию и, если смогу, стану говорить, как ритор, только пользуясь философской риторикой…» («О пределах…» II 17) — может служить символом цицероновского философского стиля и в этом сочинении, и в других. Риторический инструментарий многократно используется Цицероном на протяжении