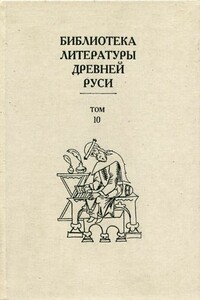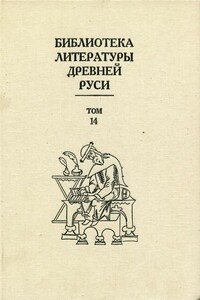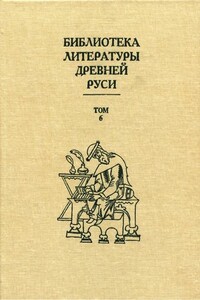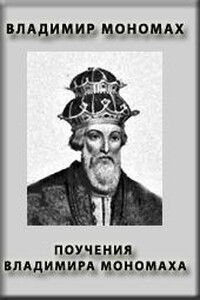Библиотека литературы Древней Руси. Том 4 (XII век) | страница 185
«Притча ο человеческой душе и теле» имеет и другое название — «Повесть ο слепце и хромце». Эта апокрифическая притча использована автором как образное основание художественной ткани произведения, на котором рассматривается философская проблема соотношения духовного и телесного, небесного (высокого) и земного (низкого) в человеке и в человеческой жизни, размышлении и деятельности, как необходимых, хотя и противоположных друг другу сфер человеческого существования. Этот сквозной диалектический спор составляет идейный смысл повести. Однако для писателя XII века, как уже сказано, аргументом в споре могли быть (и потому стали) богословские проблемы, связанные с указанным смыслом повествования. Как настоящий художник, Кирилл не ограничивается схоластическими аналогиями из священных книг, а апеллирует κ человеческой психологии, тонко варьируя оттенки поведения действующих лиц, которых, как в романе, оказывается немало: это и слепец с хромцом, и бесы, и сам Кирилл со всеми авторскими отступлениями, и многие не названные по именам, но известные современникам личности, в их числе князь Андрей Боголюбский («хромец») и его епископ Феодор («слепец»). Целью повествования является публицистическое рассуждение ο взаимоотношении церковной и светской власти, актуальном в те времена. Кирилл выступает сторонником идеи «нового господина» — непосредственно перед монголо-татарским нашествием призыв κ единению Руси был патриотическим, эту мысль вместе с Кириллом разделяли все его прогрессивные современники. Таким образом, злободневные для своего времени действия владимирского князя и ростовского епископа стали поводом для размышлений Кирилла, обращенных ко всем русским людям; текст имел сразу несколько адресатов — отсюда ненавязчивая вариация на одну и ту же тему: так Кирилл пишет для Феодора, совсем другим образом — для князя Андрея, для широкого круга мирян — совсем иначе; это туго свитая пружина с вариациями темы, разработанной до предела, до логического и художественного конца. Народный жанр притчи способствует раскрытию темы, поскольку позволил создать подтекст, свободный от прямолинейных толкований (кстати, сами слова «толкование», «сравнение» и др., донесенные до нас древнейшими списками повести, вряд ли принадлежат самому Кириллу). Да и в своей богословской части повествование содержит тот минимум церковных знаний, который был известен каждому начинающему христианину, и со временем вошел в общераспространенный народный миф: Бог насылает дождь, он карает неправедных, душа покидает тело умершего, и т. д. Это не теоретический спор богословов, а художественная попытка связать воедино несколько самостоятельных мифологических систем: народное язычество, первоначальное христианство, интеллектуальный уровень средневекового художника. Ценность повести, таким образом, заключается и в массе косвенных сведений ο быте, морали и чаяниях людей XII века. Это исключительно «авторское» произведение — большая редкость для XII века: Кирилл проявляет себя не только подбором мифологических и исторических аналогий, характерными для него толкованиями и сравнениями, но также и прямыми обращениями κ читателю, в которых откровенно высказывается ο смысле своей повести и при этом (из осторожности ссылаясь на Писание) проводит вполне еретическую мысль ο необходимости творчески, «с разумением» вчитываться в священные книги, видя в них прецеденты злободневным поступкам людей и событиям.