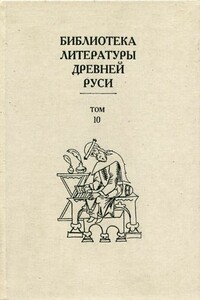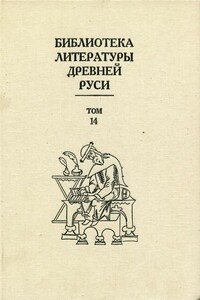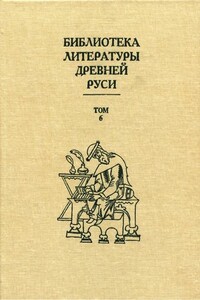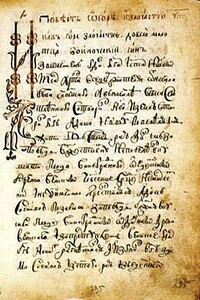Библиотека литературы Древней Руси. Том 2 (XI-XII века) | страница 10
Перед нами многознаменательное явление: устная традиция находит подлинные творческие художественные черты в творчестве народном.
Другая легенда церковного происхождения рассказана в «Повести временных лет» под 983 г. В ней речь идет о варягах-христианах, отце и сыне, замученных «невегласами»-язычниками. Варяг-отец отказался отдать своего сына для совершения жертвоприношения языческим богам и при этом обличал язычество. Народ подсек сени, на которых стояли отец и сын христиане, и растерзал их. Эта легенда связана с тем местом, на котором была построена затем Десятинная церковь, о чем и сообщается в самом начале легенды.[10] Очевидно, что она имела хождение среди клирошан этой церкви и едва ли не была создана в противовес тем народным рассказам, которые исторически точно указывали на месте Десятинной церкви старые языческие могильники, где совершался культ предков.[11] Дальнейшее историческое произведение, в которое уже входила это легенда, было составлено как раз при этой Десятинной церкви. Это свидетельствует о том, что легенда эта могла и не иметь особого распространения за пределами Десятинной церкви.
Свои местные легенды изложили в своей же летописи и монахи Печерского монастыря. Здесь в этих печерских легендах монастырское предание мешается с припоминаниями очевидцев, с личными воспоминаниями самого монаха летописца — по-видимому Нестора. Все это ясно подчеркивает, и в этом случае, узкий круг распространения христианской легенды. Она еще только создавалась и не сошла как бы еще с уст их создателей. Не успев развиться в устной традиции, она уже фиксируется в письменности, окостеневает и не развивается.
Многие из печерских легенд этого характера рассказаны в «Повести временных лет» под 1074 г. Перед нами проходит ряд ярких образов печерских монахов — Дамьяна, Еремии, «иже помняще крещенье земле Русьскыя», Матвея, Исакия и др. Образы этих монахов сложились сперва в устной киево-печерской традиции и только затем проникли в летопись. Принимая во внимание, что пестрое в социальном отношении монашество Киево-Печерского монастыря, хотя и в разной мере, было все же знакомо с народным устным творчеством, мы можем предположить, что умением создавать яркие образы своих умерших братьев печерские монахи были в значительной мере обязаны фольклору, знакомому им с детства.