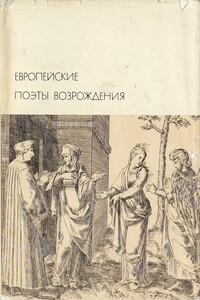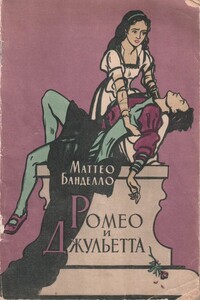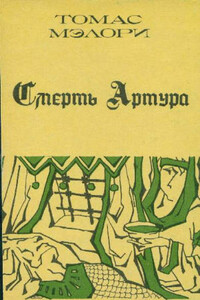Византийские сочинения об исламе | страница 40
В сочинении видна определённая последовательность изложения: сначала биография Мухаммеда (здесь влияние прп. Феофана Исповедника), затем описание отношения его веры к догматам христианства и перечисление обрядовых норм и положений (влияние прп. Иоанна Дамаскина) и после этого разбор собственно исламского вероучения.
Георгия Амартола разительно отличает от прп. Феофана тон изложения. Если у прп. Феофана мы видим спокойное, беспристрастное изложение исторических фактов, без каких-либо экспрессивных личностных оценок, то Георгий пишет об исламе в нарочито оскорбительном тоне, он словно наслаждается виртуозным подбором всё новых и новых ругательств и бранных эпитетов в адрес религии Мухаммеда, его самого и его последователей. Георгий употребляет около сотни самых разных оскорбительных слов, которые при этом в тексте почти не повторяются. В этой связи очень показательно то, что Амартол убрал из используемого им текста прп. Феофана заключительные указания на положительные моменты в религии Мухаммеда. И дело здесь не в том, как полагал Khoury, что «Амартол не умеет сдерживать свой гнев»[105], через всё это видно, что он пишет так не оттого, что даёт волю страстям (чего ему, как монаху, не положено), но потому как убеждён, что именно таковое возмущённое настроение должна испытывать душа христианина, знакомясь с богохульным заблуждением арабов. Если прп. Феофан подчёркнуто спокоен, когда пишет об исламе, а прп. Иоанн подшучивает и смеётся, то Георгий равно далёк как от первого, так и от второго. Возмущение и праведный гнев — вот, что он культивирует в своих читателях, старательно подбирая как гневные определения, так и те элементы вероучения и религиозной практики мусульман, с которыми он знакомит своего читателя. Всё, что не служит этой цели, он опускает. В этом, помимо прочего, просматривается также и его отношение к известной ему предшествующей византийской полемике с исламом (преподобным Феофану и Иоанну). Как и Феодор Абу Курра, Амартол убеждён в бесовдохновенности основателя ислама, однако прямой зависимости нет, и ничто не указывает, что константинопольский монах мог быть знаком с антимусульманскими трудами харранского епископа.
Однако, несмотря на такой настрой и выбранный тон повествования, Георгию удаётся сообщить об исламе очень много нового для византийского читателя и затронуть глубокие богословские вопросы. Некоторые очень важные темы, ставшие классическими в последующем христиано-мусульманском средневековом диалоге, он поднимает первым. Сюда можно отнести, например, вопрос о предопределении, противопоставление нравственного учения Христа и Мухаммеда, определение ислама как синкретической религии, составленной из иудаизма, христианских ересей (монофизитства и несторианства) и сохраняющей пережитки доисламских языческих культов арабов