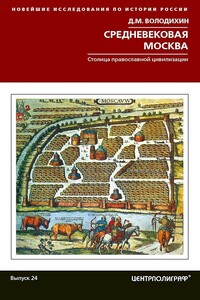Русский офицерский корпус в годы Гражданской войны. Противостояние командных кадров. 1917–1922 гг. | страница 38
Лишь меньшая часть офицерства по идейным причинам, осознанно, пошла на сотрудничество с большевиками. Но такие люди были. К примеру, после июльских событий 1917 г. с военной организацией Петербургского комитета РСДРП(б) начал сотрудничать генерал-лейтенант Н.М. Потапов, связанный с большевиками М.С. Кедровым и руководителем так называемой военки – военной организации большевиков – Н.И. Подвойским[147]. По свидетельству Кедрова, генерал Потапов еще при Керенском «оказывал большевикам ценные услуги»[148].
Идеи народовластия, торжества социальной справедливости тогда опьяняли массы. Так, генерал Е.З. Барсуков вспоминал, что вместе с генералом Н.Н. Стоговым в ноябре 1917 г. «мы пришли к заключению, что должны быть на своей Родине и честно служить русскому народу, к которому мы принадлежали, и тому правительству, какое русский народ изберет»[149]. О том, что «нужно идти с народом», говорил тогда же сослуживцам по штабу Юго-Западного фронта и полковник Н.Н. Петин[150].
Уже в 1920 г. Петин в радиограмме своему однокашнику по академии генералу П.С. Махрову, оказавшемуся у белых, сообщал о своем переходе на сторону советской власти: «Я принимаю за личное для себя оскорбление Ваше предположение, что я могу служить на высоком ответственном посту в Красной армии не по совести, а по каким-либо другим соображениям. Поверьте, что если бы я после тяжелых переживаний не прозрел, то находился бы либо на Вашей стороне, либо в тюрьме или концентрационном лагере… Я решил, что ничто не может оторвать меня от народа, и отправился с оставшимися сотрудниками и имуществом штаба фронта в страшную для нас в то время, но вместе с сим родную Советскую Россию. Может быть, Вы по-прежнему думаете, что в России все военспецы работают по принуждению под страхом расстрела, но такое заблуждение допустимо лишь рядовому офицерству, которое, насколько мне известно, Вы держите в полной слепоте, для Вас же, занимающего столь ответственную должность, как должность начальника штаба армии, и пользующегося всеми средствами разведки как агентурной, так и при посредстве иностранной прессы, должна была давно уже открыться картина истинного положения страны, и я только удивлялся, как Вы, более других возмущавшийся в дни первой революции бесправием рабочего класса, до сего времени стоите в рядах злейших врагов народа»[151]. В то же время абсолютное меньшинство военспецов вступило в большевистскую партию.
Среди старших офицеров, продолжавших служить на прежних местах при новой власти, было распространено заблуждение, что, оставшись на старых должностях, можно сохранить контроль над армией в новых условиях и не отдать ее в руки большевиков либо же в рядах Красной армии проводить государственническую линию. В этой связи достаточно любопытны показания бывшего генерал-майора С.Г. Лукирского, данные во время следствия по делу «Весна» в январе 1931 г.: «Наступившая Октябрьская революция внесла некоторую неожиданность и резко поставила перед нами вопрос, что делать: броситься в политическую авантюру, не имевшую под собой почвы, или удержать армию от развала, как орудие целостности страны. Принято было решение идти временно с большевиками. Момент был очень острый, опасный; решение должно было быть безотлагательным, и мы остановились на решении: армию сохранить во что бы то ни стало…»