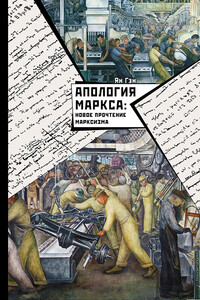Различие и Повторение | страница 26
Воспроизведение Одинакового не является побудительной причиной жестов. Известно, что даже самое простое подражание содержит различие внешнего и внутреннего. Более того, подражание играет лишь второстепенную регулирующую роль в выработке поведения, оно позволяет поправить возникающие, а не установившиеся движения. Обучение происходит не через связь представления с действием (как воспроизведение Одинакового), а через связь знака и ответа (как встречу с Другим). Знак предполагает разнородность, по крайней мере, в трех отношениях: прежде всего в объеме, несущем или производящем знак, с необходимостью представляющем различие уровней как двух порядков величин или разрозненных реалий, между которыми вспыхивает знак. С другой стороны, разнородность в самом знаке, поскольку знак в пределах объекта-носителя упаковывает другой “объект” и воплощает силу природы или духа (Идею). Наконец, в вызываемом знаком ответе — ответное движение не “похоже” на движение самого знака. Движение пловца не похоже на движение волны, точнее — движения учителя плавания, которые мы воспроизводим на песке, ничто по сравнению с движениями волны, отражать которые мы учимся, лишь практически воспринимая их как знаки. Поэтому так трудно рассказать, как учатся: существует врожденная или приобретенная практическая близость со знаками, превращающая всякое обучение в нечто любовное и смертельное одновременно. Мы ничему не учимся у того, кто говорит: делай, как я. Единственными нашими учителями являются те, кто говорят “делай со мной”, кто не предлагает нам воспроизводить жесты, а производит знаки ради их разнородного развития. Другими словами, нет идео-моторности, есть только сенсоро-моторностъ. Когда тело сопрягает свои выдающиеся точки с такими же точками волны, оно порождает не принцип повторения Одинакового, но включения Другого, различия волн и жестов, переносящее это различие в созданное таким образом пространство повторения. Учиться значит создавать такое пространство встречи со знаками, где выдающиеся точки повторяют друг друга, где повторение формируется, в то же время маскируясь. В обучении всегда присутствуют образы смерти в силу разнородности, которую оно развивает в пределах созданного им пространства. Смертелен знак, потерянный вдали, как и тогда, когда он бьет нас в полную силу. Эдип один раз воспринимает знак слишком издалека, другой — слишком близко; и в промежутке плетется страшное повторение преступления. Заратустра получает свой “знак” то слишком близко, то слишком издалека. Лишь в конце он предчувствует должную дистанцию, которая превратит то, из-за чего он болеет в вечном возвращении, в освобождающее, спасительное повторение. Знаки являются подлинными элементами театра. Они свидетельствуют о силах природы и духа, которые действуют под словами, жестами, персонажами и представленными объектами. Они означают повторение как реальное движение, в отличие от представления как ложного абстрактного движения.