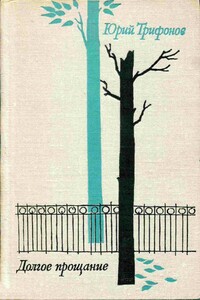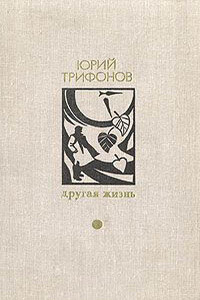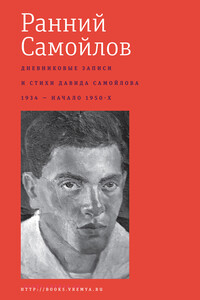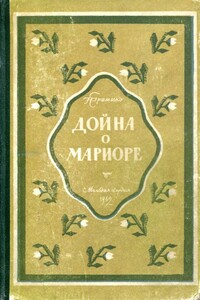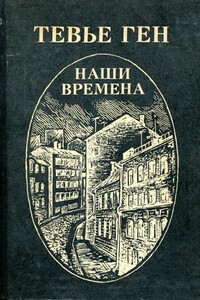Отблеск костра | страница 87
Что произошло дальше, известно из мемуаров С.М.Буденного, разоружившего и арестовавшего Миронова. Но при том объяснении, которое дает автор поведению Миронова, кажется странным, что Миронов, уводя корпус к Деникину, как прямо говорился в «Пройденном пути», дал себя разоружить и не сделал даже попытки применить ни одной винтовки, ни одного пулемета и ни одного орудия, которые, хоть и в малом числе, он имел. Правда, корпус Миронова к моменту разоружения значительно поредел. В дневнике Павла есть запись от 14 сентября: «Миронов с 500 всадниками пойман». Так или иначе, Миронов не оказал никакого сопротивления Буденному, и это потому, что шел он воевать против Деникина, а не против советских войск. Миронов был отправлен в Балашов, где его судили военным судом. Приговорили к расстрелу. Всю ночь Миронов вместе со своими командирами, тоже приговоренными к расстрелу, пел революционные песни, а утром их помиловали, затем расформировали по разным частям.
Дальнейшая судьба Миронова так же фантастична. Осенью 1919 года он приехал в Москву, побывал у Ленина и Дзержинского (кстати, благодаря вмешательству Ленина Миронов был помилован в Балашове). В начале 1920 года Миронова приняли в партию и вскоре направили в Ростов заведующим земельным отделом Ростовского исполкома. (Из дневника Павла известно, что Миронов ехал из Москвы в одном поезде с В.Трифоновым, который возвращался в Ростов с Девятого съезда партии, где был делегатом. Это было 4 апреля 1920 года.) В сентябре 1920 года вновь засверкала звезда Миронова: он назначен командармом Второй конной. В боях под Александровкой и Никополем он громит конницу Врангеля, гонит беляков до Перекопа. Он получает благодарность от Реввоенсовета республики, его награждают орденом Красного Знамени и почетным революционным оружием. И затем — клевета, расстрел, клеймо предателя на четыре десятилетия.
Миронов, конечно, сложная фигура. Все противоречия и сложности этой фигуры являются как бы отражением тех противоречий и сложностей, какие таил в себе «казачий вопрос», вопрос об отношении к казачеству — один из самых больных вопросов революции.
В связи с этим мне хочется вернуться назад, к письму Трифонова Сольцу.
Вначале это письмо просто поразило меня своим тоном: гневным, резким, почти трагическим.
Мы так привыкли, изучая историю в институтах (я учился, когда Сталин еще был жив), к тому, что наши армии двигались от победы к победе, а там, где возникали затруднения, появлялся Сталин — «партия посылала его на самые опасные участки» — и немедленно наводил порядок. И вдруг — какие-то безобразия и преступления, «о которых надо кричать на площадях». О них Трифонов пишет Сольцу, о них сообщает в своем заявлении в ЦК и просит Сольца передать его Ленину. О чем речь? О штабных безобразиях и о путанице, которую создавал Троцкий в армиях? Об этом существует много свидетельств. Есть, например, письмо Орджоникидзе Ленину, написанное в том же 1919 году и тоже с Южного фронта, где говорится о положении в штабах фронта: «Что-то невероятное, что-то граничащее с предательством… Где же порядки, дисциплина и регулярная армия Троцкого?! Как же он допустил дело до такого развала? Это прямо непостижимо…»