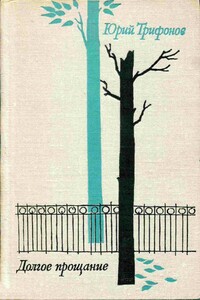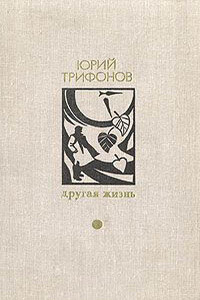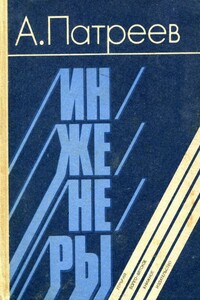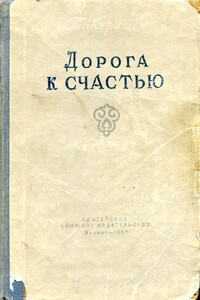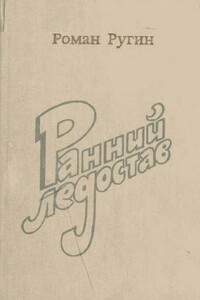Отблеск костра | страница 17
На том же этаже тюрьмы, где сидели шестеро, в камере смертников томился рабочий Петр Мартемьянов: тот, кого обвинили в ограблении артельщика и приговорили к виселице. Приговор был послан в Петербург на утверждение. Сольц дважды, сидя в камере, подавал прокурору заявление о том, что Мартемьянов не мог совершить ограбление, так как именно в это время он по его, Сольца, заданию был занят разноской прокламаций. Прокурор считал, что заявления ложны и представляют лишь попытку спасти товарища от петли. Мартемьянов ждал казни. У дверей его камеры день и ночь стоял военный караул. Один из солдат этого караула оказался своим человеком, революционно настроенным — из Тобольского полка, и он помог Сольцу и остальным наладить связь с волей. Судьба Мартемьянова разрешилась неожиданно.
В Тюмени ждали суда, а В.Трифонов снова шел знакомой этапной дорогой из Тюмени в Тобольск. Оттуда предстоял ему длинный путь по Оби в городишко среди лесов и тундры, уже двести лет известный как место ссылки, — Березов. Из Тобольска пароходом больше тысячи верст на север.
Когда вели через Тобольск, отец издали видел знакомый Тобольский каторжный централ: высоко на крутом берегу Иртыша над лугами и лесом серой плотной стеной темнели «пали», бревенчатый частокол, за «палями», невидимая, стояла еще одна каменная стена, и где-то там, внутри, среди каменных коридоров — брат. За три с лишним года Валентин побывал в двух ссылках, бежал, работал в Екатеринбурге и Тюмени, жил в Ростове, сидел в тюрьме в Саратове, сейчас шел в свою третью ссылку, из которой опять убежит, а брат все годы неотлучно — там, в кандалах.
Каторга — это не ссылка.
И младший, с тоской подумав о брате, — сам этапник, под конвоем стражи, — почувствовал себя почти вольным человеком.
Весь быт каторжных централов — Тобольского, Орловского, Александровского, Нерчинска и Горного Зерентуя — был устроен так, чтобы отбить у человека желание жить. До 1907 года тобольская каторга, как и прочие российские каторжные тюрьмы, находилась в руках «Иванов» — главарей уголовников. После разгрома революции пятого года в тюрьмы хлынули тысячи политических, социал-демократов, эсеров, анархистов, максималистов, солдат и матросов, участвовавших в вооруженных восстаниях. Между «Иванами» и «политиками» сразу возникла вражда, ибо политические не захотели подчиняться произволу «Иванов», а те не желали терять своего главенства в каторжном мире. Началась битва, жестокая, с ночной поножовщиной, со многими жертвами с обеих сторон, хорошо описанная писателями-каторжанами.