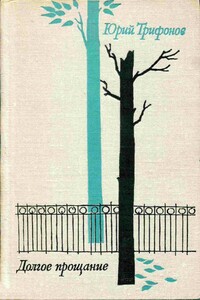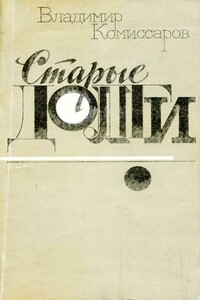Другая жизнь | страница 52
Ольга Васильевна зашла в горницу и увидела, как Кисловский, обхватив свою спутницу за талию, норовил опрокинуть ее на высокую хозяйскую кровать. Спутница, бренча серебром, сопротивлялась.
Ольга Васильевна вернулась во двор и, подойдя к Сереже, который беседовал с Климуком о чем-то совершенно пустом и несущественном, сказала ему на ухо, что видела сейчас в горнице нечто маловысокохудожественное.
— А если это любовь? — спросил он, глядя осоловелым взором. Он не был так пьян, как прикидывался. В его взгляде была покорность судьбе.
— Ну, для такой любви есть определенные заведения, — сказала она, — а не изба тети Паши.
Тетя Паша, не поняв, о чем речь, но уловив свое имя, воинственно ерепенилась:
— Чего тетя Паша? Ты тетю Пашу не трог! Тетя Паша — я те дам! Я вас, ребяты, всех тут раскурочу… — И трясла пальцем. — Все ваши тайности разберу… Коль, ты там этого, скажи…
Колька был бригадмилом, чем немало чванился, всем об этом сообщал под секретом. Вообще-то он работал плотником в совхозе. Был невысок, худощав, с чахловатой бледностью на мягком, девическом лице, волосы носил длинные, как семинаристы в Загорске, играл посредственно на гитаре, и, помнится, девушки его осаждали вечерами. Тетя Паша огорчалась, что вот, черт такой, не женится и «только силу свою переводит». А в армию Кольку не брали по здоровью, из-за слабого сердца, пить ему было запрещено — не больше стопки в день, как он рассказывал со слов врача, сокрушаясь и в то же время не без некоторой гордости, как о необычной особенности своего организма, — но запрет, разумеется, нарушался, и чуть ли не ежедневно.
Александра Прокофьевна очень следила за здоровьем Кольки, всегда его корила, когда видела пьяным, и, надо сказать, ее одну он выслушивал. Странное свойство у старухи! Близкие люди ее в грош не ставят, — да и не за что ставить, близким людям ее качества хорошо ведомы, — а вот посторонние уважают и даже побаиваются. По-видимому, там есть неодолимая потребность властвовать, чему люди простые, невысокого интеллекта, сразу подчиняются, а люди мыслящие органически этому противятся.
И в тот вечер, когда после затянувшегося обеда в сумерках пошли гулять в рощу — Кисловского едва выманили из горницы, — Александра Прокофьевна завела придирчивый, похожий на судебное разбирательство разговор с Климуком, с которым вообще была крайне непочтительна. Она его помнила совсем юным, по студенческим временам, когда он приходил, драный, тощий и голодный, из общежития («Всегда был голоден, когда бы ни пришел, и всегда мог съесть столько, сколько было, и еще сверх того, пять котлет, восемь котлет, двенадцать котлет, что-то фантастическое») и Сережа оставлял его ночевать, они играли в шахматы до полуночи, дымили папиросами, вместе готовились к экзаменам, ссорились, мирились, она называла его Гешей, считала добрым малым, но несколько лопухом, Сережа натаскивал его по диамату и языку, и вот он так выдвинулся, стал Сережиным начальником. Она замечала, как отношения сына с Геннадием переменились незаметно ни для кого, и для Ольги Васильевны тоже, но она-то застала все это вначале, когда мальчики в ковбойках пили чай на кухне, намазывая огромные куски хлеба яблочным джемом, и был еще третий мальчик в ковбойке, говоривший баском, раньше всех обзаведшийся женой и сыном, несчастный Федя, которого она любила. А теперь, замечала она, сын держится с этим дубоватым Гешей как-то скованно и даже немного стеснительно, как положено держаться подчиненному в присутствии начальника, и это было несносно, за Сережу обидно. Если Климук важничает, превратился в надутого совбюрократа из тех, над которыми смеялись еще в двадцатые годы, то Сереже ни в коем случае нельзя поддерживать этот стиль, надо сшибать с него спесь, учить его уму-разуму, этакого дурачка долговязого! И Александра Прокофьевна подчеркнуто говорила Климуку «ты», называла его Гешей, как в старину, всячески сшибала с него спесь.