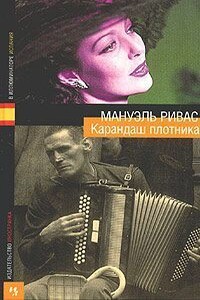Пантелей | страница 3
— А ну! Что перестал?! — кричал он, если я ковырялся в ладошке.
— Занозил, — показывал я руку.
— Эки нежности! Что из тебя получится, Пантелей, не знаю.
Я ненавидел его, но щепал и щепал лучины до потемок, все ждал, вот уйдет он куда-нибудь; знал, что и уйдет, легче не будет, на его место ляжет другой брат и повторит волю старшего.
— Ладно, кончай, Пантелеюшко, — скажет брат, и ты сунешь под печку вязанку лучин, клубком свернешься на горячей печке и уснешь. Работа делилась на легкую, домашнюю, и тяжелую, заимошную.
Меня барином прозвали в семье, когда на целое лето запрягли нянчиться с племянником.
Как только поднималось солнце, во двор выбегала невестка, удилищем шуровала по сеновалу или, не добудившись таким способом, залезала и срывала с меня шубенку.
— Семья пашет, а он спит. Притаился, небось. Марш к зыбке!
Не умывшись, я хватался за зыбку и, если укачать племянника не удавалось, кормил тюрей, сажал на горшок, угнездывал его в тележке и возил по селу в обществе таких же нянек. Глядишь, ребенок голову свесил, и ты уснешь сразу же, коснувшись теплого бревна. Вокруг гвалт, а ты спишь, и разбудит тебя крепкий шлепок невестки.
— Окаянный! Вот ирод навязался. С таким пустяшным делом не сладит! Вези его! Катай его!
Опять заскрипит тележка, и опять, наклонясь к ней, катаю я племянника до вечера. Соседи смеялись:
— Кончай работу. Вот и Санька откучерил на своем драндулете.
Я всегда хотел спать. Я мог спать сидя на земле, на бревне, навалясь на тележку, даже стоя вдруг чувствовал, что засыпаю. Девчонки замечали мое состояние и кричали:
— Пантелей-то умирает! Ложись уж, чучело, а мы посмотрим.
Спать было нельзя. Из ворот подглядывала невестка.
Я видел, что няньки запасались бутылочками зеленоватого настоя. Разбухшие головки мака плавали в нем. Горластому ребенку они совали соску в рот и давали глотнуть раз-другой. Повяньгав немного, ребенок засыпал, не чуя на лице черных скопищ мух. Брат где-то прослышал, что мак — отрава, и запретил пользоваться им. Я завидовал нянькам. Раз выпросил у них бутылочку и вдоволь напоил племянника. Отвез его на край села в пышные заросли крапивы и, увидев, что он спит, сам лег подле тележки. Видать, спали мы долго, потому что успела схлынуть жара, и в полусне я чуял идущую прохладу от земли. Крепкие руки схватили меня и подняли на ноги. Я шмыгнул в крапиву, как в кипяток. Плакать я не смел, лишь плясал на одном месте и издавал звук «фу-фу-фу», словно хотел сдуть огонь ожогов. Невестка схватила ребенка, брат тележку, и убежали, а я упал на землю и терся об нее. У меня еще горели уши, когда я вернулся домой. Ребенок не просыпался. Брат встретил меня со знакомой бутылочкой.