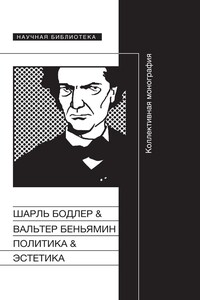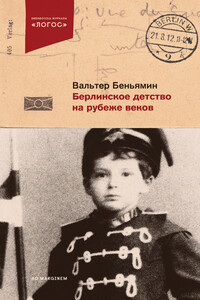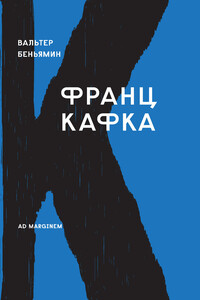Учение о подобии | страница 26
Обнаруживается, что традиционное понимание как сущности, так и соотношения судьбы и характера не только проблематично, поскольку оно не способно рационально объяснить возможность предсказания судьбы, но и вообще ложно, потому что различение, на котором оно основано, теоретически неосуществимо. Ибо невозможно сформировать непротиворечивое понятие, исходя из внешнего облика действующего человека, ведь его ядром является характер в подобном его рассмотрении. Нельзя определить понятие внешнего мира, противопоставив его понятию действующего человека. Скорее наоборот, между действующим человеком и внешним миром все находится во взаимодействии, сферы их действия пересекаются; и сколь бы ни разнились их представления, понятия их нераздельны. Не только ни в каком случае нельзя указать, что в человеческой жизни, в конечном счете, является функцией характера, а что — функцией судьбы (сказанное здесь ни о чем бы не говорило, если бы эти функции переходили одна в другую лишь в сфере опыта), но, сверх того, внешнее, которое заранее дано действующему человеку, можно в произвольно высокой степени принципиально соотнести с его внутренним началом, а его внутреннее — в такой же степени с внешним, и даже, в принципе, рассматривать как таковое. При подобном рассмотрении, далеко отстоящем от теоретического их разделения, характер и судьба совпадают друг с другом. Так оно у Ницше, когда он говорит: «Если у кого–то есть характер, то у него есть и пережитое событие, постоянно возвращающееся»[19]. Это значит: если у кого–то есть характер, его судьба весьма постоянна. Правда, одновременно значит и другое: у него нет судьбы — и к такому выводу в свое время пришли стоики.
Если задаться целью вывести понятие судьбы, то необходимо строго отделить его от понятия характера, что, со своей стороны, не удастся, пока характер не будет более точно определен. На основе такого определения оба понятия обнаружат существенное расхождение; судьба уже наверняка не заступит на место характера, а характер не встретишь в обстоятельствах судьбы. Кроме того, нужно обоснованно отнести оба понятия к тем сферам, в которых они не будут, как это имеет место в обыденном словоупотреблении, узурпировать положение высших сфер и понятий. Ведь обычно характер ставят в этический, а судьбу — в религиозный контекст. Их нужно изгнать из этих областей, разоблачив заблуждение, благодаря которому они туда попали. К подобному заблуждению относительно понятия судьбы привело то, что его связали с понятием вины. Приведем типичный пример: судьбоносное несчастье человека объясняют ответом Бога или богов на его религиозную провинность. Но тут–то как раз следует задуматься о том, что, в то время как понятие вины связывают с моралью, соответственная связь понятия судьбы с понятием невиновности отсутствует. Идея судьбы в классическом греческом обличье совершенно не увязывает счастье, выпадающее на долю человека, с безвинностью его жизненного пути; напротив, счастье искушает человека и приводит его к самой тяжкой провинности — к гордыне. Стало быть, судьба не связана с невиновностью. И — копнем еще глубже — есть ли у судьбы вообще какая–либо связь со счастьем? Является ли счастье, равно как и, вне всякого сомнения, несчастье, определяющей категорией судьбы? Ведь счастье, скорее, выпутывает счастливого человека из сплетения судеб и из сетей его собственной судьбы. Недаром Гёльдерлин называет блаженных богов «не имущими судьбы»