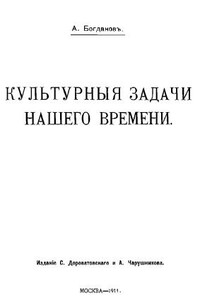Эстетическая теория | страница 16
>1 чужеродный (греч.).
держалось не отрицаемого им момента того, от чего оно отталкивается. С незаинтересованностью должна соседствовать тень самого яростного интереса, если незаинтересованность хочет быть чем-то большим, чем просто равнодушием; и кое-что говорит о том, что достоинство произведений искусства зависит от степени интереса, из сферы которого они и вырваны. Кант отрицает это в угоду понятию свободы, которое мстит за это, оборачиваясь несвободой, гетерономной зависимостью, что всегда является качеством, несвойственным субъекту. Его теория искусства страдает от недостаточности учения о практическом разуме. Мысль о прекрасном, которое обладало бы какой-то степенью самостоятельности или обретало бы ее по отношению к суверенному Я, в свете общих положений его философии выглядит как выход в умопостигаемые миры. Вместе со всем тем, однако, из чего искусство, сопротивляясь и бунтуя, и возникает, у него отсекается всякое содержание, которое заменяется столь формальной категорией, как удовольствие, приятность. Для Канта, что достаточно парадоксально, эстетика становится кастрированным гедонизмом, наслаждением без наслаждения, совершая в равной степени несправедливость как по отношению к художественному опыту, где удовольствие играет побочную, второстепенную роль, никоим образом не составляя всего его содержания, так и в отношении живого, материального интереса, подавленных и неудовлетворенных потребностей, которые трепещут в своем эстетическом отрицании, делая художественные творения не просто пустыми образцами, а чем-то большим. Эстетическая незаинтересованность расширила интерес, выведя его за границы частного существования и обособленности. Интерес к эстетической тотальности объективно был интересом к правильному формированию целого. Он был направлен не на достижение отдельных, единичных целей, а на осуществление безграничных возможностей, которое, однако, было бы невозможно без выполнения отдельных, частных задач. Слабостью фрейдовской теории искусства, вполне сопоставимой со слабостями теории Канта, является то, что она гораздо более идеалистична, чем сама это предполагает. Рассматривая произведения искусства исключительно в рамках психической имманентности, она лишает их возможности быть антитезисами всего, что представляет собой область не-Я. Сфере, выходящей за пределы Я, уже не страшны шипы и колючки произведений искусства; они растрачивают свои силы, погружаясь в бездны психологического анализа, решающего проблемы инстинктов и подсознательных влечений, борьбы с ними и, наконец, приспособления к ним. Психологизм эстетической интерпретации легко уживается с филистерским взглядом на произведение искусства как на явление, гармонично примиряющее и сглаживающее противоречия, как на мечту о лучшей жизни, позабывшую о жизни плохой, из тисков которой произведение с трудом вырвано. Конформистскому принятию психоанализом расхожих взглядов на произведение искусства как на благодетельное культурное достояние в психоанализе соответствует эстетический гедонизм, изгоняющий всю негативность из искусства в сферу подсознательных конф-