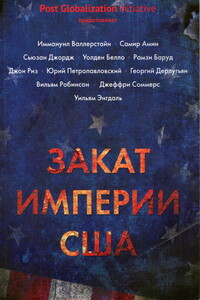Реставрация в России | страница 8
Роза Люксембург, писавшая свои экономические работы практически одновременно с Лениным, поняла специфику периферийного капитализма гораздо глубже. Впоследствии те же вопросы на более современном материале рассматривались в работах Иммануила Валлерстайна, Самира Амина и других левых социологов, находившихся в СССР под запретом.
Главной особенностью периферийного капитализма, по мнению Розы Люксембург и ее последователей, является то, что в него «встроены» многочисленные некапиталистические структуры. В этом смысле всевозможные отклонения от западной «нормы» сами по себе являются абсолютной нормой развития. Эксплуатация периферии центром происходит многими путями и прямое неоколониальное обслуживание иностранных интересов компрадорской буржуазией — лишь самый простой и, по большому счету, наименее эффективный.
Важнее то, что естественная логика международного рынка капиталов предопределяет централизацию финансовых потоков. Там, где появляется «открытая экономика», начинается стихийное перераспределение ресурсов в пользу более развитых и богатых стран «центра». Причем богатство и развитость этих стран с какого-то момента уже сами по себе становятся в первую очередь результатом их «центрального» положения в системе. Став частью «периферии», Россия обрекла себя на постоянный дефицит финансовых ресурсов, бегство капиталов и вывоз сырья. Более того, для периферийной страны Россия оказалась чрезмерно развитой, что и предопределило неизбежный упадок промышленности, технологии, науки и образования. Единственным противовесом этому стихийному процессу оказывается государственное вмешательство, о необходимости которого начинают говорить уже не большевики, а идеологи капитализма, такие как миллионер Джордж Сорос, гордящийся, что благодаря его стараниям в России были введены «новые учебники, свободные от марксистской идеологии»6). Ведь последствия неолиберального курса оказались столь катастрофическими, что грозят полным распадом общества. А это уже не устраивает даже тех, кто наживается за счет проводимой политики.
После 17 августа 1998 г. траектория развития уже легко угадывалась. В сфере идеологии и политики неолиберализм сменялся консерватизмом, западничество и космополитизм — умеренным национализмом и «державностью», имитация демократии — более открытым авторитаризмом. В сфере экономики возрастала роль государственного сектора. Это наводило на мысль о возвращении к советской модели. Однако если в постреволюционной «мобилизационной экономике» мощное государственное вмешательство было средством изменения ситуации, преодоления отсталости ускорения развития, выравнивания социальных и региональных диспропорций и выхода за пределы логики «периферийного развития», то в постельцинской России государство (как и положено в обществе, пережившем реставрацию) глубоко консервативно, а его вмешательство преследует только одну цель — стабилизировать социальную и экономическую систему в том виде, в каком она сложилась за прошедшие десять лет. Это означает сохранение и периферийного капитализма. Зависимость от Запада в геополитическом плане также остается неизбежной несмотря на любую патриотическую риторику.