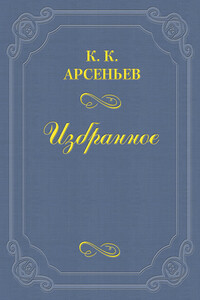Владимир Сергеевич Соловьев | страница 12
Мы привели главные мысли высокоталантливого философа, значение которого для русского философского развития чрезвычайно велико, но в настоящее время еще трудно определимо. Два его сочинения «Критика отвлеченных начал» и «Оправдание добра» принадлежат к лучшему, что имеет русская философская литература. Преждевременная смерть, без сомнения, громадная утрата для русской философии, ибо он не успел дать окончательной формы своей гносеологии и эстетике, но существенные свои взгляды он высказал настолько полно, что в общих чертах можно себе представить направление, в коем он развил бы свою теорию познания и теорию красоты.
Первые публицистические статьи С. были помещены в «Руси» Аксакова, в начале 80-х годов, и касались преимущественно вопросов церковных. Между редактором и его сотрудником скоро возникло разномыслие, выразившееся сначала в примечаниях Аксакова к статьям С., а потом в открытой полемике, главным поводом к которой послужил напечатанный в «Известиях Славянского Общества» (февр. 1884) этюд С.: «О народности и народных делах России». С. отвечал Аксакову открытым письмом, озаглавленным: «Любовь к народу и русский народный идеал» («Правосл. Обозрение», апр., 1884). Поводом к разладу послужило но только убеждение С. в возможности и необходимости воссоединения церквей, но и общий взгляд С. на назначение русского народа, все больше и больше отдалявшейся от славянофильской доктрины. Еще на страницах «Руси» (в статье: «Нравственность и политика», перепечатанной, вместе с двумя названными выше, в первом томе «Национального вопроса»), С. определенно провозгласил принцип, составляющий одну из основ его позднейшей деятельности: «Идея культурного призвания может быть состоятельной и плодотворной только тогда, когда это призвание берется не как мнимая привилегия, а как действительная обязанность, не как господство, а как служение… Христианство сохраняет национальность, но упраздняет национализм». Несколько позже С. преклоняется перед петровской реформой, как перед «смелым отречением от народной исключительности»; «„национальное самоотречение“, во имя великой цели, он ставит выше национального самолюбия и самомнения». В статье: «Что требуется от русской партии» («Моск. Сборник», 1887) он резко осуждает «антирусский подражательный патриотизм». «Было бы очень печально, – говорит он, – если бы из подражания политике кн. Бисмарка мы поставили вопрос о наших окраинах на почву принудительного и прямолинейного обрусения… Как главной патриотической заботой наших отцов было освобождение крестьян, так нам нужно прежде всего заботиться о духовном освобождении России». Придя к таким заключениям, С. не мог не порвать последних связей, соединявших его с охранительной печатью – и с начала 1888 г. г. стал работать преимущественно в «Вестнике Европы» (где он уже с 1886 г. помещал иногда свои стихотворения). Его статьи появлялись также в «Русской Мысли», «Книжках Недели», «Русских Ведомостях», «Книжках Нивы» и «Руси» (газете В. П. Гайдебурова, выходившей в 1897 г.). Открытым вызовом на бой была его статья: «Россия и Европа» («Вестн. Европы», 1888, февр. и апр.; переп. в I т. «Национального вопроса»), направленная против известной книги Н. Я. Данилевского (см.), которую слишком усердные хвалители только что перед тем объявили «катехизисом и кодексом славянофильства». Впечатление, произведенное этой статьей на друзей и врагов, было тем сильнее, что миросозерцание С., в общем и главном, осталось без изменений. С обычными подозрениями и обвинениями нельзя было отнестись к философу, начавшему с борьбы против позитивизма, к глубокому знатоку богословской науки, к верующему и открыто исповедующему свою веру сыну церкви. Единственным результатом возражений, посыпавшихся на С., было обнаружение в полном блеске полемического его таланта. От книги Данилевского С. перешел к славянофильству вообще, в его историческом развитии, и дал, в «Очерках из истории русского сознания» («Вест. Европы», 1889 г.; перепеч. во II т. «Национального вопроса», под заглав.: «Славянофильство и его вырождение»), уничтожающую критику славянофильской доктрины и ее более или менее отдаленных отголосков. «Поклонение своему народу как преимущественному носителю вселенской правды; затем поклонение ему как стихийной силе, независимо от вселенской правды; наконец, поклонение тем национальным односторонностям и историческим аномалиям, которые отделяют наш народ от образованного человечества, т. е. поклонение своему народу с прямым отрицанием вселенской правды» – вот, по словам С., «три постепенные фазы нашего национализма, последовательно представляемые славянофилами, Катковым и новейшими обскурантами». Веру Каткова в русское государство, как в абсолютное воплощение русской народной силы, С. чрезвычайно метко называет «подлинно-мусульманским фанатизмом». От языческого пути самодовольства, коснения и смерти он резко отличает христианский путь