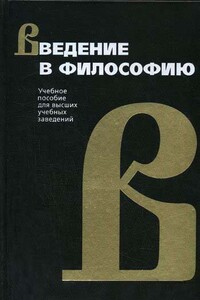Мудрость смерти | страница 15
Все они, и те, кого мы не назвали, а их было поразительно много, создали новую просветительскую символику, которая требует для своей реализации публичного пространства, в котором и происходит вечное расколдовывание мира, вечный выход из захолустья.
Они завещали нам вечную борьбу с захолустьем коллективных мифов и коллективных упований, даже когда покажется, что время окончательно застряло в углу, там, где скапливается пыль.
Они должны остаться в нашей памяти не только как «борцы с захолустьем», но и как титанически-прометеевские люди, способные действовать вопреки, способные на святотатство, способные создать самих себя, преодолевая границы исторического времени.
А заколдованный мир захолустья продолжает сопротивляться новому историческому времени до сих пор…
Вместо заключения.
Мы придумали время или время придумало нас? Мы для него или оно для нас?
Говорят, мы живем в эпоху «post», «после».
После всего. После истории, после модернизма, после национализма.
Даже после времени.
Конечно, время, бегущее мимо нас, никуда не делось. Часы отстукивают астрономическое время, календари помогают не запутаться в смене дней недели, месяца, года. Но эпоха постмодерна, если не отменяет время, то замедляет его настолько, что разные времена наскакивают друг на друга. Сталкиваются в одном пространстве. Поэтому, кажется, что время остановилось.
Растворилось в пространстве.
Время стало пространством.
Пространством современности.
Историческое время, когда каждый шаг осмысляет себя как вытекающий из предыдущего, постепенно отступает под напором международных конвенций и юридических санкций.
Модернизация стала пониматься сугубо технологически, как набор дискретных правил, исключающих время событий.
Более живучим оказалось время национальных историй, но и они мифологизировались настолько, что давно обходятся без исторического времени, подменяя его игрой в хронологический бисер.
Региональные конфликты, пожалуй, последний всплеск исторического сознания в национальном обличье, пафос регионального соперничества придаёт им ложную значимость.
Но и это уже анахронизм. Апелляция к прошлому, как аргумент в исторических спорах, становится признаком провинциального сознания. Последней попыткой раздувать собственные амбиции, когда не хватает умения думать и чувствовать, чтобы обнаружить, что просто застрял в углу, где скапливается пыль.
Уже звучат призывы сбросить с себя бремя исторического времени. Особенно среди тех народов, которые давно ощутили невыносимую тяжесть исторического бытия.