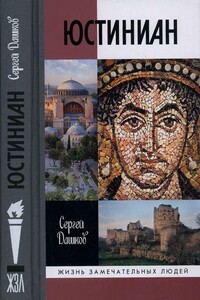Дюймовочка в железном бутоне | страница 26
– Вкусная, – удовлетворенно заключала она или, – спелая.
Все молчали. Вдруг она, озорно улыбнувшись, схватила черничину из владений Андрюшки и положила на язык.
– Эх, хороша ягодка у Андрюши! – Подзадорила она внука.
– Моё! – Неожиданно взревел он. – Не цапай мои ягоды, старая ведьма!
Шурка враз оказался у него за спиной. За шиворот выдернул из-за стола:
– Что ты сказал, змеёныш? А ну, проси прощения у бабушки!
– Не буду! – Заорал Андрюшка, – чего она ворует мои ягоды? Сама не платила, а ест! Мама мне их купила, а они тут все объедаются!
Шурка, до того побелевший от ярости, вдруг неожиданно повеселел. Хохотнул коротким знакомым смешком.
– Тебе, говоришь, купила? А ну, мать, бабушка, Мила с Машей, брысь из-за стола! Садись, Андрюха! Вот. Ешь. Твоя ягода. Вся твоя! Тебе же куплено! Для тебя одного плачено! Садись, ешь! Пока все! до последней ягодки! не съешь! не выпушу тебя отсюда, – он говорил внятно и с расстановкой.
– Шурик, оставь его, – попробовала вмешаться тётка, – ребёнок не понимает, что говорит. Пусти его. Он больше не будет!
– Иди, мать, отсюда, иди! Сказал же, – жёстко улыбаясь, потребовал Шурка.
– Сейчас он поймёт. Повзрослеет. Оставь ягоды, мать! Он их сейчас есть будет. В другой раз варенье сваришь!
– Не бу-у-у-у-ду!!! – Почти завизжал Андрюха.
– Будешь! Куда ты денешься, – вытащил Шурка ремень.
– Пойдём, пойдём отсюда, – потянула бабушка меня в дом, – пусть их.
До поздней ночи Андрей сидел за столом. Шурка с ремнём караулил рядом, не давал приблизиться матери. Мы тоже не подходили. Мне казалось, я вижу, как давится черникой Андрюшка, как его рвёт ею, как мать уносит его в комнату, как старший брат идёт следом… Было совсем темно.
Продолжение главы: бабушка живет с нами
Бабушка меня любила, а Андрюшку нет – с ним никто не мог совладать. А он невзлюбил меня.
Во-первых, мы редко встречались, друг друга почти не знали – до прошлого года Мудровы жили в Германии, теперь мы впервые оказались с ним вместе на даче.
Во-вторых, его мать, тётя Наташа, откровенно меня не любила, не утруждаясь это скрывать: я была тощей, болезненной, с громадными глазами и острым носом на худеньком лице и не вызывала у нее ни малейшей симпатии.
– Ты, Манюня, прямо Кощей бессмертный, – смеялась она, а Андрюха вторил,
– Кикимора болотная! Маню-ю-нь-нька!!!!
Однажды он подстерёг меня и, оглянувшись, нет ли кого поблизости, выпалил торжествующе и злорадно: «Твоя мать сгнила! Ее черви съели!»
Во мне замерло сердце, остановилось дыхание, исчезли мысли, и мир замолчал вокруг. Скажи он это через год, я бы заплакала безутешными слезами осознающего сиротство ребёнка, как плакала на даче в ТЭПовском детском саду, когда один мальчишка, разозлившись, что я выбрала в пару не его, а другого семилетнего кавалера, выпалил в отместку страшные слова о моей умершей маме. Я тогда заметалась в отчаянии, зарыдала, давясь и захлёбываясь, и дети испуганным выводком застыли кругом.