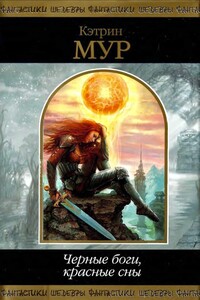Обретение неба | страница 37
- В добрый час, мой дорогой, в добрый час.
- Начинаю выводить машины согласно полётного плана.
- На Рорар!
Тяжело груженные военные корабли с трудом отрывались от портовых фарватеров. Они уходили в серое, свинцовое небо, увозя в своих туловах бомбы и десант панзергренадеров.
Импеллеры натужно гудели под плоскостями, стойки шасси складывались в бока небесных кораблей. Радко скосил глаза на флаг-капитана. Мальчишка-полковник держался совсем неплохо. Флагманский батарейтор лидировал группу сил эскадры. Если все будет гладко, эта война войдет в историю, а герои смогут подтвердить свои временные звания.
Под крылом убегали бесконечные зеленые пейзажи, корабли шли на небольшой высоте, военный авиафлот обычно не поднимался на высокие эшелоны. Машинам требовалось экономить магию в своих алиментах, потому что в отличии кораблей некомбатантов у них был хронический перегруз.
Резко засвежело. И это заставило эскадру немного разрядить строй. Радко опасался, что в такой болтанке кто-нибудь столкнется.
Он постучался в ворота утром. Братия не заметила оборвашку. Но старик продолжал упорно колотить по мерзлой воротине. Сдыльц недовольно отпер створку. У странника не было зубов, один глаз его вытек. Но другой смотрел горящим огнём.
Пришлось монахам позаботится о клошарике. Его обмыли, дали вместо рванины сухую одёжу. И, конечно, накормили. Настоятель велел ему много еды не давать, было видно, что старец голодает давнишно. Его запавшие щеки и орлиный нос явно свидетельствовали о долгом и мучительном воздержании.
Речь старика разобрать было сложно. Насытившись, он прилег на скамью и уснул. Проснуться ему было уже не суждено. Так и умер во сне.
Когда на другое утро его понесли хоронить, прихватили ошметки старой одёжы. Среди вороха тряпья внезапно обнаружился черный-черный от грязи, пота и сала офицерский шеврон. Стало быть, военный, никак небесный гуардон. Братия долитлового монастира была далека от воинских знаний. Да и никто из них не видел такого шеврона. Косой крест, что-то да значил.
Сдыльц хотел оставить себе тряпицу на добрую память, но всё же побрезговал грязью. Толстый монах вернул доходяге боевую гордость и кинул в разверзшую землю шеврон выцветшей золотой канители.
- А как звать-то его, что писать-то на поминальной грамотке?
- Пиши Никникос, по месяцу будем поминать, как еще этого беззубого оборва наречь?