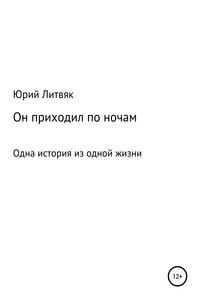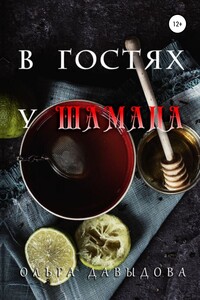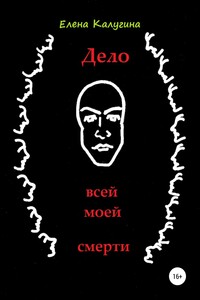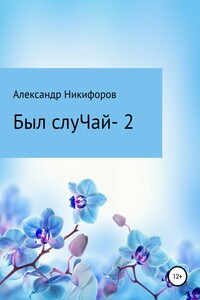В глубине осени. Сборник рассказов | страница 37
Когда я был совсем маленьким, родители ставили мою кроватку, плетённую из ивовых прутьев, вплотную к своему дивану так, чтобы я был всё время у мамы под рукой. Просыпаясь ночью, я переваливался через перила кроватки, падал на родительский диван и забирался к маме с папой под одеяло. Как-то раз я спросонья перепутал и упал в противоположную сторону, но там ничего, кроме пола, не оказалось. От удивления и обиды я, естественно, заорал.
Бедная моя кроватка! В ней позже завелись клопы, которые с удовольствием пили по ночам мою младенческую кровь, и отец вынес её во двор, облил керосином и спалил. Я смотрел на костёр и был доволен тем, что вместе с ней горели мои кровопийцы.
Дом был трёхэтажный, если считать и наш полуподвальный этаж. Второй этаж был самый «цивильный», и там селились в основном старшие офицеры, военные прокуроры или военные врачи со своими семьями. Последние были в основном евреями. Были и смешанные семьи. Например, семья прокурора Ликёра, жена которого была русской. Офицеры же были русские, украинцы и белорусы. Комнаты у них были посветлее и побольше, потолки выше, окна пошире, а так всё то же самое.
Я не помню, чтобы когда-нибудь возникали ссоры или конфликты на национальной почве. Жили дружно, дружили семьями, и связи эти остались на долгие годы. Даже когда наши дома снесли один за другим и все получили квартиры в разных концах города, дружба не прерывалась. Были тут семьи военврача Вайнтрауба, экономиста Эйнгорна. На одном этаже с нами, в таком же подвальчике, только дальше по коридору, жила семья парикмахера Флейша. Мы росли вместе, и наша детская жизнь проходила во дворе.
Жили все примерно одинаково. Ну, может быть, жители второго этажа материально чуть лучше, но ни у кого это не вызывало ни зависти, ни злобы. Так, во всяком случае, мне тогда казалось. Когда стали появляться телевизоры, соседи ходили к обладателям чудо-приёмника по вечерам в гости, со своими чадами и домочадцами, смотреть разные передачи и фильмы. Расставлялись стулья, кто-то тащил свои табуретки. Жизнь каждой семьи проходила на виду у всех, и все знали, что происходит у соседей: кто поругался, кто расходится, кто гуляет, кто что купил – да никто ничего и не скрывал.
Я не помню случая, чтобы кто-нибудь обозвал еврея «жидом», а русского «кацапом», или «москалём». Это противоречило всему строю тогдашней жизни. И как я мог назвать своего дружка Илюшку Эйнгорна или Инку Флейш «жидами»? Да я и слова такого не знал и от родителей (спасибо им!) не слышал. Для меня они были друзьями, товарищами, дворовым братством. Все они были для меня чем-то естественным и органичным, как воздух, которым дышишь, не задумываясь, как булыжная мостовая нашей улицы, которую топчешь каждый день и другой себе не представляешь, как будто она вечно была и вечно будет…