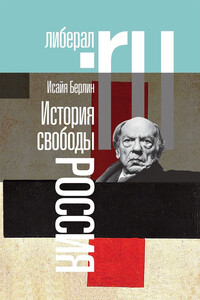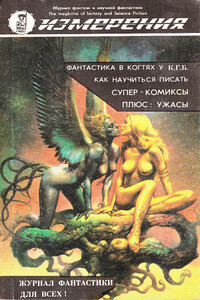Русские мыслители | страница 47
Наиязвительнейшие насмешки Толстого и самая едкая его ирония достаются мнящим себя и выступающим «официальными специалистами» по делам человеческим: западным военным теоретикам, генералам Пфулю, Беннигсену и Пау- лучи, дружно мелющим вздор на Дрисском военном совете: одни — поддерживая, другие — отвергая предлагаемую стратегию или тактику; эти вояки — самозванцы и плуты, ибо нет и не будет на свете никакой теории, объемлющей беспредельное разнообразие вероятного людского поведения, бесконечное множество крохотных, неощутимых причин и следствий, порождающих взаимную связь и взаимодействие людей и природы — то, что история тщится запечатлеть. Все, кто притворяются, будто способны это необъятное множество обрамить «научными» законами, — либо отъявленные шарлатаны, либо слепые поводыри слепцов. Наисуровейший приговор, соответственно, припасен для теоретика-гроссмейстера: великого Наполеона, который и сам верит, и других завораживает своей верой в то, что он, Наполеон, постигает происходящее, и управляет им — благодаря сверхчеловеческому разумению, или вспышкам наития, или иным образом отыскивая правильные ответы на вопросы, задаваемые историей. Чем громче такие заявления, тем бесстыднее ложь, а стало быть, Наполеон — самое жалкое и презренное изо всех действующих лиц великой трагедии.
Именно тут и кроется великое заблуждение, разоблачать которое берется Толстой: нельзя считать, будто личность способна собственными силами и попечением понимать события и направлять их в нужное русло. Считающие так чудовищно ошибаются. И ведь бок-о-бок с этими площадными лицедеями, пошлыми и пустыми людьми — наполовину поверившими самообману, а наполовину сознающими свое шарлатанство, говорящими и пишущими отчаянно и бесцельно, дабы соблюдать приличия и держаться поодаль от угрюмых истин, — совсем рядом с этой расписной ширмой, скрывающей зрелище людской немочи, никчемности и слепоты, простирается настоящий мир и струится поток жизни, видимый и внятный тем, кто не чужд мелочам вседневного существования. Когда Толстой противопоставляет эту «живую жизнь» — истинный, обыденный опыт отдельных личностей — панорамному виду, предлагаемому фокусниками от истории, Толстой прекрасно понимает, где здесь настоящее бытие, а где крепко — временами даже изящно — сколоченные, да неизменно плоские театральные декорации.
Начисто не схожий с Вирджинией Вульф почти ни в чем, Толстой, пожалуй, первым изрек общеизвестное обвинение, адресованное полвека спустя английской писательницей «площадным пророкам» ее собственного поколения — Бернарду Шоу, Герберту Уэллсу и Арнольду Беннетту, — коих она окрестила незрячими материалистами, зачаточного понятия не имевшими об истинной сути бытия, путавшими внешние случайные события и никчемные стороны существования, лежащие за пределами отдельно взятой людской души — так называемую общественную, экономическую и политическую действительность, — с единственными истинами: личным опытом, частными взаимоотношениями личностей; цветом, запахом и вкусом; звуками и движениями; ревностью, любовью, ненавистью, редкими озарениями; судьбоносными минутами; обыденной последовательностью происшествий и впечатлений, лишь для одного-единственного человека и важных, — со всем тем, что зовется «настоящей» жизнью.