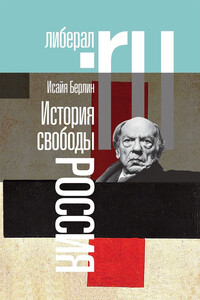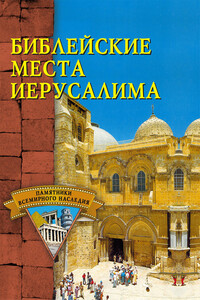Русские мыслители | страница 30
На смену меншиковскому исправно явился новый тайный комитет (император имел привычку доверять особо важные дела различным тайным комитетам, которые, не ведая о засекреченном существовании своих же соратников, зачастую орудовали наперекор друг другу), возглавляемый Бутурлиным, а затем Анненковым, и получивший известность как «Комитет второго апреля». Обязанностью нового комитета была не предварительная цензура (ею по-прежнему занимались цензоры, подотчетные Министерству народного просвещения), но пристальное изучение уже напечатанных произведений и статей, дабы докладывать о любых замеченных следах вольномыслия самому Императору, заботившемуся о соответствующих карательных мерах. С жандармерией этот комитет поддерживал связь через вездесущего Дуббельта. Члены его отличались нерассуждающим и неубывающим служебным рвением; они знать не желали о других учреждениях и департаментах, а однажды, переусердствовав, осудили и запретили сатирическое стихотворение, одобренное самим Царем[42]. Просеивая и провеивая каждое слово, напечатанное отнюдь не многочисленными повременными изданиями, комитет поистине успешно задушил все виды политической и общественной критики — подавил едва ли не все, кроме дежурных восхвалений, адресованных Государю и Православной Церкви.
Это уж было чересчур даже для Уварова: сославшись на нездоровье, министр народного просвещения вышел в отставку. Преемником Уварова сделался ничем особым не знаменитый дворянин, князь Ширинский-Шихматов[43]. Он вручил государю памятную записку, говорившую: несомненно, одна из главных причин общественного недовольства — свобода философских построений, дозволенная в российских университетах. С этим государь согласился, назначил князя директором канцелярии министерства народного просвещения и строго наказал ему улучшить университетское преподавание: вообще следовало строже придерживаться заповедей и наставлений православной веры, а в частности, искоренять опасные философические уклоны и пристрастия. И дух и букву этого средневекового предписания исправно соблюли: последовала «чистка» образования, затмившая даже пресловутое «очищение» Казанского университета, что десятью годами ранее учинил Магницкий. 1848-1855 годы сделались мрачнейшим часом в ночи тогдашнего русского обскурантизма. Даже холуй Греч, едва ли не лопавшийся от стремления угодить властям, — человек, чьи письма, отправленные из Парижа в 1848-м, хулят любые наимягчайшие либеральные реформы Второй республики с презрением, коего, пожалуй, не выказывал и сам Бенкендорф, — даже это презренное существо чуть ли не с горечью сетует в своей автобиографии[44], составленной в 1850-е годы, на глупость новейшей двойной цензуры. Вероятно, самое живое и точное описание этого литературного «белого террора» содержится в известном отрывке из воспоминаний писателя-народника Глеба Успенского: