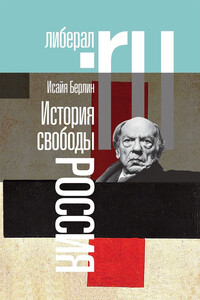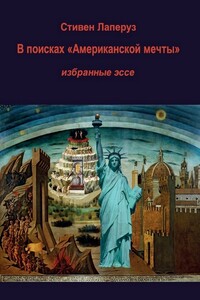Русские мыслители | страница 113
Немного сыщется самодовольной чепухи, порожденной рационалистами восемнадцатого столетия, которой там и сям не встретится в бакунинских писаниях. Уже провозгласив мятеж людским правом — и долгом, — уже объявив срочное насильственное свержение любой государственной власти настоятельной необходимостью, Бакунин восторженно заявляет: верую в абсолютный исторический и социальный детерминизм — и одобрительно цитирует слова бельгийского статистика Кетлэ: «Преступления готовит само же общество, а преступники — лишь необходимые орудия, которыми общество эти преступления совершает»[175]. Вера в свободную волю иррациональна — поскольку Бакунин, подобно Энгельсу, полагает: «свобода есть <... > неизбежный конечный итог естественной и социальной необходимости»[176]. Окружающая людская — равно как и природная — среда лепит нас полностью; и все-таки, нужно бороться не за человеческую независимость от «законов природы и общества», но от любых законов, «политических, уголовных и гражданских», навязываемых человеку окружающими «вопреки его личным убеждениям»[177].
Это завершающее бакунинское определение свободы — наиболее сложное; а что желал он сказать подобной фразой — гадайте сами. Явствует лишь одно: Бакунин — противник любых ограничений, налагаемых на кого угодно, где угодно и в каких угодно условиях. Мало того: подобно Гольбаху и Годвину, он считает, что довольно устранить искусственные ограничения, наложенные на человечество слепо соблюдаемыми обычаями, или неразумием, или «корыстным пороком» — и все мгновенно станет на должные места: справедливость и добродетель, счастье и наслаждение — и свобода! — немедля и повсеместно пустятся в дружную победную пляску. Искать в бакунинских высказываниях что-либо разумнее и основательнее этого — занятие неблагодарное[178]. Бакунин использовал слова не для творческих, а для чисто поджигательских целей — и был по части поджигательской великим мастером: даже ныне его словеса не утратили способности воспламенять людские умы.
Подобно Герцену, Бакунин терпеть не мог нового правящего класса: дорвавшихся до власти Фигаро — Фигаро- банкиров и Фигаро-министров, Фигаро, не способных сбросить лакейскую ливрею, накрепко приросшую к их коже[179]. Он любил свободных людей и неукротимые личности. Ненавидел духовное рабство больше всякого иного порока. И, подобно Герцену, глядел на немцев как на безнадежно холопский народ — причем говорил об этом часто и глумливо: