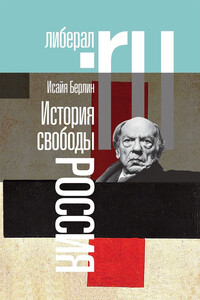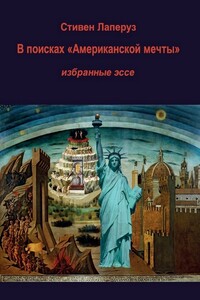Русские мыслители | страница 103
, Шампанским вафли запивая, толкуем о социализме. Я знаю, что это «е новость, что о«о « прежде было так, «о прежде они не догадывались, что это очень глупо»>1.
Герцен более последовательный «диалектик», нежели «научные социалисты», отметавшие утопии, творимые соперниками, только ради того, чтобы лелеять собственный многовековой бред. Для сравнения с бесклассовой идиллией, представленной Энгельсом в «Манифесте коммунистической партии», выберем следующие строки Александра Герцена:
«Социализм разовьется во всех фазах своих до крайних последствий, до нелепостей. Тогда снова вырвется из титанической груди революционного меньшинства крик отрицания, « снова начнется смертная борьба, в которой социализм займет место нынешнего консерватизма и будет побежден грядущею, неизвестною нам революцией»[148].
У исторического процесса не бывает «кульминации», высочайшей точки. Человеческие существа изобрели это понятие лишь оттого, что невыносимой казалась мысль о нескончаемом конфликте.
Подобные предсказания сыщутся и в свирепых пророчествах Гегеля и Маркса, также предрекавших погибель буржуазии, и смерть, и лаву, и грядущую новую цивилизацию. Но если писания обоих — и Гегеля, и Маркса — звучат несомненно злобной насмешкой, вурдалачьей радостью при мысли о том, какие необъятные разрушительные силы сорвутся с цепи, какое начнется поголовное уничтожение всех простодушных, всех глупцов и всех презренных филистеров, ни сном ни духом не ведающих о своей грядущей жуткой участи, то Герцен свободен от низменного преклонения перед зрелищем торжествующей и лютующей силы, от презрения к слабости как таковой, и от романтического уныния, в коем кроются корни всякого нигилизма и фашизма, пришедших уже позднее; Герцен отнюдь не полагает близящийся катаклизм неминуемым или славным. Он презирает либералов, затевающих революции, а затем пытающихся утихомирить их последствия; одновременно подрывающих старый порядок — и льнущих к нему; поджигающих фитиль — и старающихся предотвратить взрыв; пугающихся, когда является легендарная тварь — их «несчастный, обделенный брат»[149] — рабочий, пролетарий, требующий себе прав и не разумеющий, что если ему самому терять нечего, то интеллигентный человек легко потеряет при этом все.
Именно либералы предали парижскую, римскую и венскую революции 1848 года — не только ставши отступниками и помогая разбитым реакционерам возвратиться к власти и раздавить свободу, но сперва ударившись в бегство, а после голося: «исторические силы чересчур могучи, чтобы противиться им». Если не знаешь решения задачи, гораздо честнее признаться в этом и сформулировать ее условия более понятным образом, нежели сперва затемнять их, расписываться в немощи, идти на предательство, — а потом сетовать: история, дескать, слишком уж могущественна, куда нам против нее...Верно: идеалы 1848 года были и сами по себе достаточно пустыми — во всяком случае, Герцен считал их пустыми в 1869-м: «Ни одной построяющей, органической мысли мы не находим в их завете, а экономические промахи, не косвенно, как политические, а прямо и глубже ведут к разорению, к застою, к голодной смерти»[150]. Грубые экономические промахи плюс «арифметический <...> пантеизм всеобщей подачи голосов», «суеверие <...> в республику» и «суеверие в парламентские реформы»[151] — вот и все, по сути дела, идеалы 1848 года.