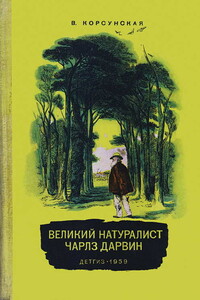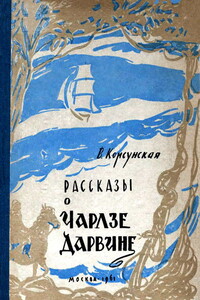Три великих жизни | страница 120
Задачу науки, удел ученого наилучшим образом сформулировал французский зоолог и анатом Жорж Кювье: «Называть, описывать и классифицировать — вот основа и цель науки». Эта формула стала своего рода знаменем, девизом многих исследователей.
Но наступило время, когда наука, стремительно развившаяся со времени Линнея, получив от него огромный толчок к движению вперед, вдруг затопталась на месте. Она не говорила больше нового слова — значит, и не двигалась дальше. Одно описание мелких фактов без попыток связать их общим рассуждением ничего нового не приносило.
«Определяем вид по одной шкурке, по одному экземпляру, даже не всегда живому, а набитому, не зная ничего о его органических изменениях и условиях, его переходных формах, его жизни и проч., и прибавляем только под конец описания: «Чучело видел я в таком-то кабинете» или: «Единственный экземпляр этого насекомого у того-то», — писал русский ученый К. Ф. Рулье.
Принципы классификации были неверны, потому что они не касались родства организмов. По существу, классификаторы послелиннеевсксго времени оказались более формальными, чем их великий учитель.
Пусть Линней произвольно брал один-два признака, но какие признаки? Наиболее существенные, прошедшие красной нитью и в современные системы: строение органов размножения цветка, строение сердца у позвоночных. Его же последователи, стремясь учесть возможно большее количество признаков, размельчили их невероятным образом. «Лишнее пятнышко, бугорок, отверстие, присутствие или отсутствие волос, перьев, игл на животных различных классов, особенно низших, почитаем мы достаточным для разграничивания видов», — писал Рулье.
Поиски и раздумья в отношении естественной системы Лишней не оставлял всю жизнь. В течение всей своей деятельности он разрабатывал ту и другую систему. В труде «Классы растений», опубликованном в 1733 году, он писал о ней намного раньше, чем появилась его полная «Система природы». Значит, дело было не так, как иногда думают: Линней создал искусственную систему, был недоволен ею п под конец жизни стал создавать новую, более совершенную — естественную.
Нет, всю жизнь он неутомимо искал, какие же естественные группы существуют в природе, какими признаками в целом они характеризуются. «Признак — слуга, а не господин», — говорил он. И напрасно иногда думают, что Линней был рабом своей искусственной системы. Он ею пользовался, но искал одновременно лучшую.
«Наука есть достояние общее, — писал Д. И. Менделеев, — а потому справедливость требует не тому отдать наибольшую научную славу, кто первый высказал известную истину, а тому, кто умел убедить в ней других, показал ее достоверность и сделал ее применимой к науке». Такими словами можно ответить тем, кто считает, что Линней только обобщил труды предшественников и ничего не открыл сам.