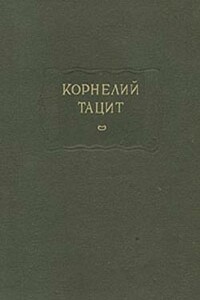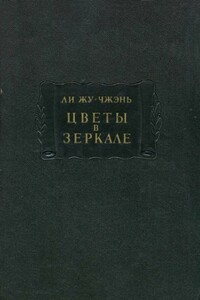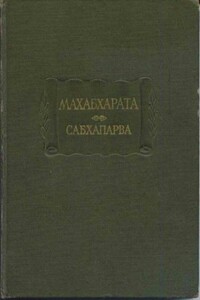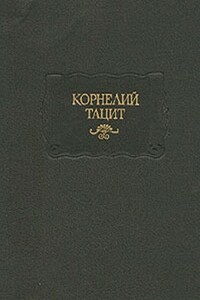Пиндар, Вакхилид. Оды, фрагменты | страница 126
Александрийские филологи III в. не случайно в своей систематизации литературного наследия прошлого провели четкую черту именно после поколения Пиндара и Вакхилида: по сю сторону ее продолжался живой литературный процесс, по ту сторону оставалась отодвинувшаяся в былое классика. Из великих поэтов хоровой лирики, чьи стихи удалось собрать были отобраны шесть самых громких имен — приблизительно по одному на поколение, — к ним добавили три крупнейших имени поэтов монодической лирики; так составился «канон» девяти лирических поэтов, в чьих образах закрепилась для потомства целая эпоха греческой литературы. Всех их благодарно перечисляет безымянная эпиграмма «Палатинской антологии» (IX, 184, пер. Л. Блуменау):
M. Л. Гаспаров. ПОЭЗИЯ ПИНДАРА
Пиндар — самый греческий из греческих поэтов. Именно поэтому европейский читатель всегда чувствовал его столь далеким. Никогда он не был таким живым собеседником новоевропейской культуры, каковы бывали Гомер или Софокл. У него пытались учиться создатели патетической лирики барокко и предромантизма, но уроки эти ограничились заимствованием внешних приемов. В XIX в. Пиндар всецело отошел в ведение узких специалистов из классических филологов и по существу остается в этом положении до наших дней. Начиная с конца XIX в., когда Европа вновь открыла для себя красоту греческой архаики, Пиндара стали понимать лучше. Но широко читаемым автором он так и не стал. Даже профессиональные филологи обращаются к нему неохотно.
Может быть, одна из неосознаваемых причин такого отношения — естественное недоумение современного человека при первой встрече с основным жанром поэзии Пиндара, с эпиникиями: почему такой громоздкий фейерверк высоких образов и мыслей пускается в ход по такой случайной причине, как победа такого-то жокея или боксера на спортивных состязаниях? Вольтер писал (ода 17): «Восстань из гроба, божественный Пиндар, ты, прославивший в былые дни лошадей достойнейших мещан из Коринфа или из Мегары, ты, обладавший несравненным даром без конца говорить, ничего не сказав, ты, умевший отмерять стихи, не понятные никому, но подлежащие неукоснительному восторгу…». Авторы современных учебников греческой литературы из уважения к предмету стараются не цитировать этих строк, однако часто кажется, что недоумение такого рода знакомо им так же, как и Вольтеру.