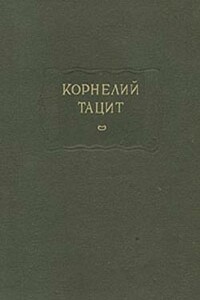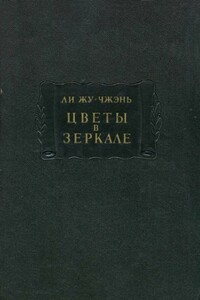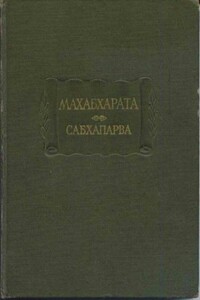Пиндар, Вакхилид. Оды, фрагменты | страница 120
Обновить хоровую лирику, вернуть ей ее место в полисной культуре могла лишь полная переориентация — от песен, обращенных к богам, к песням, обращенным к людям. Греческой поэзии посчастливилось: поэт, который сделал такую перестройку, нашелся. Это был главный деятель следующего, пятого поколения греческих лириков — Симонид Кеосский (556—468); расцвет его приходится около 510—500 гг., сверстниками его были такие мыслители, как Гераклит и Парменид, первые поэты аттической трагедии Феспид и Фриних, первый крупный ионийский прозаик Гекатей — люди уже нового цикла греческой культуры.
Симонид сумел с замечательной чуткостью нащупать то место, где поэзия во славу человека и поэзия во славу государства смыкались, где событие личной жизни воспеваемого приобретало государственное значение. Он стал творцом двух новых жанров хоровой лирики: «эпиникия» — песни в честь победы на состязаниях, и «френа» — плача о смерти именитого гражданина. До него френы обходились старыми фольклорными формами, а эпиникии вообще не существовали. Это был отклик на новую форму общественной и религиозной жизни Греции — всеэллинские состязания, справляемые периодически, в праздничной обстановке «божьего перемирия», питающие не только чувство местного полисного патриотизма, но и межполисного всенародного единства. Такие празднества по инициативе дельфийского оракула распространились по Греции именно в VI в.: в 586 г. были учреждены Пифийские игры, в 582 Истмийские, в 573 Немейские, вместе с ними оживились и старые Олимпийские. Победа гражданина на таких играх считалась общегражданским торжеством, и песня ему была песней его городу; точно так же и смерть знатного гражданина была общей потерей, и плач о нем собирал не только родню и друзей, но и всех сограждан. Оба повода — и самый славный, и самый скорбный час человеческой жизни — были как нельзя более удобны для размышлений на моральные темы: о том, что в жизни все непрочно и переменчиво, что человек не должен полагаться на себя и превозноситься душой, и что чувство меры — превыше всего; а такая мораль лучше всего служила интересам полисного гражданского равновесия. Этот моралистический элемент стал четвертым в составе хорической оды и отлично скрепил в ней исконные три — религиозный, повествовательный, личный. Конечно, это не было новостью, греческая поэзия любила морализм еще с гесиодовских времен; но из всех ранних лириков греческие антологисты собирали нравственные сентенции единицами, а из одного Симонида — десятками. Конечно, это не было откровениями глубокой мудрости, такая философия умеренности и здравого смысла всегда колебалась на грани банальности; но недаром именно к Симониду обратился в своей нравственной диалектике Платон, сохранивший в «Протагоре» характернейший фрагмент симонидовой морали: