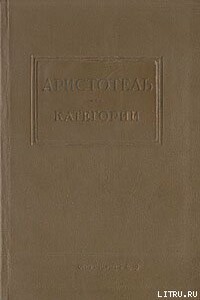Мифологические поэмы | страница 28
Из стихов, завершающих эту часть поэмы (795-802), становится ясно, что Оресту не грозит осуждение ни со стороны его сограждан, ни со стороны богов, — их Драконции даже не упоминает.
Здесь в развитие действия вмешивается новый мотив, необязательный для того, чтобы представить дальнейшую судьбу Ореста: спор за Гермиону и убийство Пирра (803-819), которые в дальнейшем приведут к тому, что обвинителем Ореста перед судом Ареопага выступит Молосс, не имеющий к Оресту никакого отношения во всей предшествующей традиции.
Впрочем, суд Ареопага еще дело будущего, пока же автор возвращает читателя к судьбе" Ореста: явившийся призрак матери доводит его до безумия (820-861). Нетрудно понять, что Драконции поручает Клитеместре ту роль, которую в греческой трагедии играли эринии, преследовавшие Ореста как до суда, так и после; именно, чтобы спасти его от них, и посылал Аполлон Ореста в Тавриду. У Драконция в далекие края отправляет Ореста Пилад, а поводом служит как раз появление Молосса, требующего Ореста к ответу за убийство Пирра (862-866).
Дальше начинается скороговорка, напоминающая описание бегства Медеи и Язона из Колхиды: пребывание полубезумного Ореста в Тавриде, его узнавание Ифигенией, очищение и бегство вместе с ней занимают всего-навсего 20 стихов, причем так и остается непонятным, зачем Ифигения похищает кумир Дианы (867-889).
Речи сторон перед судом афинских старейшин, построенные обе по всем правилам риторики, акцентируют различные моменты: Молосс оценивает поступок Ореста с точки зрения человеческого права, Орест особенно настаивает на благоволении к нему богов (890-938). Впрочем, ни одному из них не удается убедить в своей правого большинство судей: голоса делятся пополам, и только голос, поданный Минервой в защиту Ореста, решает его судьбу (939-962). Завершает поэму обращение к богам с просьбой положить конец всяким преступлениям среди эллинов (963-974).
Как видим, поэма вполне отчетливо разбивается на две, почти равновеликие половины: первая (1-426) посвящена убийству Агамемнона и сложившейся после этого ситуации, вторая (515-974) — мести Ореста и ее последствиям. Связующим звеном между прошлым и будущим служит сцена у могилы Агамненона (453-514).
Из обзора развития действия в "Трагедии Ореста" возникают по меньшей мере три вывода.
Первый: по содержанию поэма соответствует, в общем, охвату событий в "Орестее" Эсхила, но прибавляет к ним ряд эпизодов, которые, по-видимому, не способствуют ее целостности. Сюда относятся: встреча Агамемнона с Ифигенией (44-107), не оказывающая никакого влияния на дальнейшее развития действия (при появлении в храме Ореста Ифигения даже не вспоминает о своей встрече здесь же с отцом); советы Клитеместры Эгисту, как с помощью женских чар привлечь на свою сторону микенскую знать (305-337), — никаких последствий эти предложения тоже не имеют; выдуманный рассказ Дорилая о гибели детей Агамемнона (350-381), — непонятно, в чем его смысл, если Орест и Электра уже находятся в безопасности; похищение Гермионы Пирром и месть Ореста, не имеющие отношения к его долгу мести* за убитого отца (803-819); наконец, остается столь же непонятным, зачем Пилад посылал Ореста в Тавриду, если по возвращении его ожидает тот же Молосс (865 сл., 887-889).