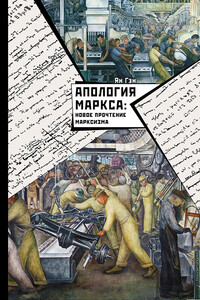Речи к немецкой нации | страница 77
Поясним это на примере. Мы слышали, как нациям в лицо говорили, что им не надобно так много свободы, как какой-нибудь другой нации. Эти речи могут заключать в себе даже интонацию пощады и послабления, если, положим, хотели сказать собственно то, что нация не могла бы даже и вынести столь много свободы, и только значительная мера строгости правителей может помешать тому, чтобы их подданные сами до конца истребили друг друга. Но если эти слова понимать так, как они были сказаны, то они истинны лишь при том условии, что такая нация решительно не способна жить изначальной жизнью и питать влечение к таковой. Такой нации, – если бы вообще возможна была подобная нация, в которой ведь тоже немалое число благородных душ составляли бы исключение из общего правила, – такой нации и в самом деле свобода была бы вовсе не нужна, ибо свобода существует лишь для высших целей, которые превосходят само государство, – такая нация нуждается только в укрощении и дрессировке, с тем чтобы индивиды могли мирно уживаться друг с другом, и чтобы целое можно было обратить в удобное средство для произвольно полагаемых целей, находящихся вне его. Мы можем оставить без ответа вопрос о том, можно ли справедливо сказать подобное хоть какой-нибудь нации. Ясно, во всяком случае, что изначальному народу свобода необходима, что она служит ему залогом его сохранения в качестве изначального, и что в дальнейшем своем бытии он может без малейшей для себя опасности вынести все возрастающую меру этой свободы. И это – первое, в отношении чего любовь к отечеству должна править самим государством.
Во-вторых, она должна править государством в том отношении, что должна ставить перед ним цель более высокую, чем обычно полагаемая ему цель сохранения гражданского мира, собственности, личной свободы, жизни и благосостояния всех. Только для этой высшей цели, и ни в каких иных видах, государство собирает у себя вооруженную силу. Если встает вопрос о применении этой вооруженной силы, если оказывается необходимо поставить на карту все цели государства, заключенные в простом понятии собственности, личной свободы, жизни и благосостояния, и даже продолжение бытия самого государства, и, не имея при этом ясного рассудочного понятия о том, будет ли наверняка осуществлено в действительности наше намерение, – а знать это в подобных делах мы и никогда не можем, – принять изначальное решение, ответ за которое мы дадим только Богу, – тогда только у кормила государственного правления живет подлинно изначальная и первая жизнь, и только в этот час вступают в силу подлинные суверенные права правительства, подобно самому Богу рискнуть в этом отношении низшей жизнью людей ради высшей жизни. В сохранении унаследованного от предков устройства, законов, гражданского благополучия вовсе нет настоящей и подлинной жизни, нет изначального решения. Все это создано обстоятельствами и положением, законодателями, которые, быть может, давно уже умерли; последующие эпохи доверчиво следуют дальше проторенным путем, и потому в самом деле живут не собственной публичной жизнью, но лишь повторяют жизнь, когда-то бывшую. В такие времена нет надобности в действительном правительстве. Но если этому равномерному ходу дел угрожает опасность, и требуется принять решение о новых, прежде никогда в этом виде не бывалых, случаях жизни: тогда нужна жизнь, живая из самой себя. Какой же дух имеет в таких случаях право встать у кормила государства, сможет решать силой собственной убежденности и уверенности, не предаваясь беспокойным колебаниям, и имеет неоспоримое право повелительно указывать всякому, к кому он ни обратится, – хочет ли он сам того или нет, – чтобы он подверг опасности все, вплоть до самой жизни своей, и принуждать того, кто станет ему противиться? Отнюдь не дух спокойной гражданской любви к конституции и законам, но всепоглощающее пламя высшей любви к отечеству, которая объемлет нацию как покров вечного, коему благородный человек с радостью пожертвует собою, а неблагородный, существующий лишь ради этого первого, именно что должен пожертвовать собою. Не гражданская любовь к конституции имеет это право; да эта любовь и не сможет этого сделать, если останется в здравом уме. Как бы там ни случилось, но поскольку правитель исполняет свое дело не задаром, то правитель для них всегда найдется. Пусть даже новый правитель пожелает учредить рабство (а в чем же и состоит рабство, если не в пренебрежении и подавлении самобытности изначального народа, которой для разумения этого правителя вовсе не существует?), – пусть даже он пожелает учредить рабство. Но поскольку из жизни рабов, их множества, и даже их благосостояния можно извлечь выгоду, то, если он хоть сколько-нибудь умеет считать, рабство при нем будет вполне сносным. Жизнь и пропитание, по крайней мере, его рабы всегда найдут для себя. За что же им в таком случае сражаться? И для тех, и для других покой превыше всего. Продолжая борьбу, они этот покой только нарушат. Поэтому они используют все средства для того, чтобы только эта борьба поскорее закончилась, они покорятся, они пойдут на уступки, да почему же им и не уступить? Ведь им никогда и прежде не нужно было ничего больше, и они никогда не надеялись получить от жизни что-то большее, чем продолжение привычного существования при хоть несколько терпимых условиях. Обетование жизни здесь на земле, продолжающейся, когда их жизнь на земле уже окончится, – только это может вдохновить их на смерть за свое отечество.