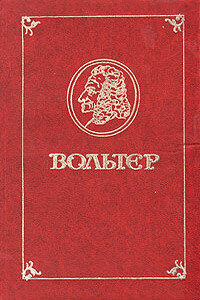Речи к немецкой нации | страница 57
Однако в другом отношении Германия оказала своим церковным улучшением всеобщее и устойчивое влияние на иностранные государства, причем не на народ, а на образованные сословия; и этим своим влиянием сама, в свою очередь, подготовила себе в этой загранице предшественника и вдохновителя для нового творчества. К свободному и самодеятельному мышлению, или философии, люди испытывали побуждение и занимались ею уже и в предшествующие столетия, под властью старого учения, но отнюдь не затем, чтобы произвести истину из самих себя, но лишь затем, чтобы показать, что учение церкви истинно, и каким именно образом оно истинно. Вначале философия получила ту же самую задачу в отношении к новому учению и у немецких протестантов, и стала у них служанкою Евангелия, как у схоластов она была служанкою церкви. В загранице, у которой или вовсе не было Евангелия, или же которая не постигла его истины с кристально чистой немецкой молитвенностью и душевной глубиной, свободное мышление, вдохновленное достигнутой блестящей победой, поднялось легче и вознеслось выше, не будучи сковано верой в сверхчувственное; но оно осталось в чувственном плену веры в естественный рассудок, выросший без всякого содействия нравов и образования; и заграница не только не сумела открыть в разуме источник на самой себе основанной истины, но приговор этого грубого рассудка стал для нее тем, чем была для схоластов церковь, и чем для первых протестантских богословов было Евангелие; в истине этого приговора не возникало никаких сомнений, и вопрос заключался только в том, как можно отстоять эту истину от оспаривающих ее притязаний.
Коль скоро же это мышление совершенно не вступало в область разума, возражения которого были бы более значительны, оно не находило себе иного противника, кроме исторически наличной религии, и оно легко разделывалось с нею, прилагая к ней мерку своего гипотетического здравого смысла и со всей ясностью обнаруживая при этом, что подобному здравому смыслу она именно что противоречит. И так получилось, что, как только все это вполне и окончательно выяснилось, за границей имя философа и имя невера и атеиста стали однозначительны, и служили одинаково почетным отличием.
Попытка совершенно возвыситься над всякой верой в чужой авторитет – а это то, что было верного в этих устремлениях заграницы, – стала новым источником вдохновения для немцев, от которых, через посредство церковного улучшения, эта попытка впервые и началась. Хотя второстепенные и несамостоятельные умы среди нас попросту повторяли это учение заграницы – предпочитая, кажется, это заграничное учение столь же легко доступному учению своих земляков потому, что первое воображалось им более благородным – и эти умы пытались, насколько им было возможно, убедить сами себя в его истине; но где пробуждался самостоятельный немецкий дух, там чувственного ему было уже недостаточно, и там возникала задача: искать сверхчувственное (в которое, впрочем, не следует слепо верить, полагаясь на чужой авторитет) в самом разуме, и только таким образом впервые создать подлинную философию, сделав свободное мышление, как и должно, источником независимой истины. К этому стремился Лейбниц