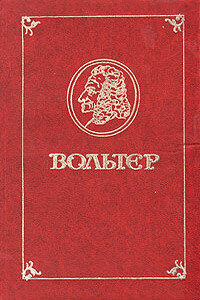Речи к немецкой нации | страница 47
Словно какая-то коренная зараза всего германского племени, это же может случиться и с немцем в его отечестве, если возвышенная серьезность духа не послужит ему защитой. И нашим ушам звуки латинской речи нередко кажутся возвышенными, и нашим глазам римские нравы представляются благородными, а немецкие – вульгарными; а раз мы не были настолько счастливы, чтобы получить все это из первых рук, то запросто соглашаемся принять это и из вторых рук, через коммивояжеров из числа новых римлян. Пока мы немцы, мы кажемся сами себе такими же людьми, как другие; когда же мы говорим наполовину или больше чем наполовину на чужом, не немецком, наречии, и носим непохожие нравы и платья, привезенные по-видимому из дальних стран, мы сразу мним себя благородными; но величайшее торжество для нас, это – если нас вовсе уже не считают за немцев, а видят в нас, например, испанцев или англичан, – смотря по тому, кто из них теперь более в моде. И мы правы. Естественность, со стороны немцев, произвольность и деланность, со стороны иностранцев, – таково основное различие; если мы сохраним в себе первую, то именно что будем таковы же, как весь наш народ; народ поймет нас и признает в нас подобных себе; только если мы прибегнем к подражанию последним, мы станем непонятны для него, и он сочтет нас существами иного мира. В жизнь иностранца эта неестественность входит сама собою, потому что он изначально и в главном уклонился от природы; а мы вынуждены сперва отыскивать ее, и еще приучать себя верить, будто прекрасно, уместно и удобно то, что нам естественным порядком таким не кажется. Основная причина всего этого – твердая вера немца в большее благородство романизированной заграницы, а равно и наклонность вести себя столь же благородным образом и искусственно создать также и в Германии ту пропасть между высшими сословиями и народом, которая естественно возникла за границей. Здесь достаточно будет указать основной источник этой тяги к подражанию иностранщине среди немцев. Сколь обширно ее распространение, а также и то, что зло, от которого гибнет ныне наш народ, – иностранного происхождения, но что оно должно было повлечь за собою нравственную порчу, только соединившись с немецкой серьезностью и стремлением воздействовать на жизнь своей мыслью, – это мы покажем в другой раз. Кроме двух этих явлений, возникающих вследствие основного различия, – а именно, вмешивается ли духовное образование в развитие жизни или нет, и существует ли преграда между образованными сословиями и народом или нет, – я укажу еще вот какое явление: народ с живым языком обнаруживает прилежание и серьезность и прилагает старания во всех делах, народ же с мертвым языком считает духовное занятие скорее некоторой игрой гениальности, и пассивно предается произволу своей счастливой природы. Это обстоятельство само собою следует из вышесказанного. У народа с живым языком исследование возникает из потребности жизни, которую это исследование должно удовлетворить, и получает отсюда все понуждающие импульсы, заключающиеся в самой жизни. У народа с мертвым языком это исследование стремится единственно лишь к тому, чтобы приятно и не без пользы для чувства прекрасного провести время, и если оно так и сделает, оно вполне достигнет своей цели. У иностранцев последнее почти необходимо так; у немца же, там где мы встречаем это явление, все настойчивые ссылки на гениальность или счастливую природу суть недостойная немца иностранщина, которая, как всякая иностранщина, появляется от желания выглядеть поважнее. Хотя ни в каком народе на свете без изначального стимула в душе человека, – который, как сверхчувственный, по праву носит иностранное имя гения, – не может возникнуть ничего замечательного. Но этот стимул сам по себе только возбуждает воображение и рисует в нем витающие над землею и никогда не достигающие полной определенности фигуры. Чтобы эти фигуры получили законченность, вплоть до самого основания действительной жизни, и достаточную определенность, чтобы могли быть в этой жизни долговечны, – для этого нужно усердное, тщательное и совершающееся по твердому правилу мышление. Гениальность дает прилежанию материал для обработки, и прилежание без гениальности могло бы обрабатывать или только то, что уже было им прежде обработано, или же ему не над чем было бы трудиться. Но прилежание вводит этот материал, который без него остался бы игрою без содержания, в самую жизнь; и потому лишь сообща они на что-то способны, поодиночке же они ничтожны. А кроме того, у народа с мертвым языком подлинная гениальность решительно не могла бы проявиться, потому что им недостает изначальной способности обозначения, и они могут только развивать уже начатое и вплетать его в совокупность уже имеющихся и законченных обозначений.