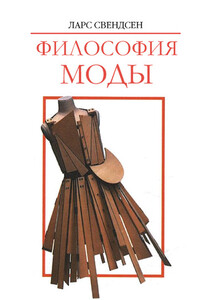Западная философия от истоков до наших дней. Т. 4. От романтизма до наших дней | страница 9
Нового слова, свежей мысли ждала не только Германия, но и вся Европа, поэтому романтизм распространился очень быстро. «Лирические баллады» Уильяма Вордсворта и Сэмюэля Тейлора Колриджа с предисловием, написанным в 1800 г. ко второму изданию, стали манифестом английского романтизма. Книга мадам Де Сталь «О Германии» 1813 г. и «Полусерьезное письмо Златоуста сыну», написанное в 1816 г. Джованни Берше, говорят о том, что Франция и Италия не остались глухи к романтизму.
2.2. Фридрих Шлегель, понятие иронии и трактовка искусства как высшей формы духа
Фридрих Шлегель (1772—1829) отошел от классицизма Винкельмана и теории Шиллера, обретя свой путь в философии после встречи с Фихте и Шеллингом. Как для любого романтика, главное для него — бесконечное, к которому можно прийти либо дорогой философии, либо через искусство. В обоих случаях доступны лишь конечные средства Как же быть? Шлегель предпринял попытку параллельного поиска. На философском поприще достойна внимания его теория иронии, что же касается искусства, здесь его теоретический вклад бесспорен.
Говоря об иронии, мы сразу же вспоминаем Сократа, любителя поиграть со своей жертвой. Он знал, как заставить оппонента разоружиться. Для Шлегеля цель — бесконечное, к которому можно прийти, используя неадекватность мышления, поскольку оно всегда нечто детерминированное. Преодолеть эту границу, продвинуться дальше и выше, за пределы неизбежного противоречия условного и безусловного, под силу иронии, которую Шлегель помещает по ту сторону любого знания, действия, науки. Понять неадекватность любого действия, факта человеческого духа, полагал он, нельзя без элемента шутки, юмора, розыгрыша.
Несмотря на подражание классике, понятие иронии в контексте романтизма тесно связано с вполне серьезным чувством «Sehnsucht» («страстное желание, стремление страсти»). Николай Гартман верно оценил суть дела: «Шлегеля глубоко мучила невыразимость и мистическая непостижимость всего того, что подлинно важно для мышления. Так мысль в конце концов иронизирует сама над собой по поводу собственного бессилия... Вместе с тем это и реабилитация иррационального, вытесненного из мышления». Речь идет о мысленном сальто в пустоту, где, конечно, мысль никогда не найдет прочной опоры, награда — лишь непосредственное осознание единственно реального, достигаемое в той мере, в какой мышление сознательно покидает себя. Форма «выпрыгивания из себя» и есть ирония, юмор, насмешка над собой (а не над другим).