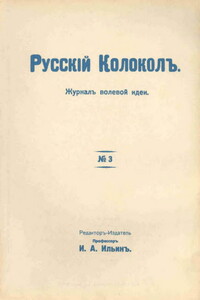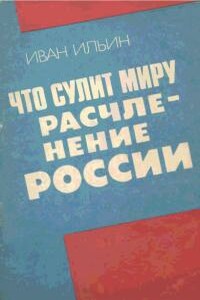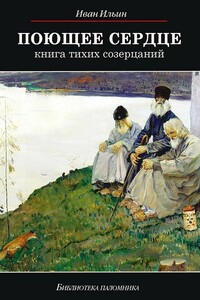Переписка двух Иванов (1935 — 1946). Книга 2 | страница 13
230
И. С. Шмелев — И. А. Ильину <21.II.1935>
21. II. 35, 12 ч. н<очи> на 22-ое
Булонь на Сене
Дорогой Иван Александрович,
Не могу не поделиться с Вами «подарками», полученными мной только что от заруб<ежной> критики: 1) от Г’адамовича из «П<оследних> Н<овостей>» (четв<ерг> 2 II «П<оследние> Н<овости>») — за мою «семипудовую» из Москвы, и 2) от Пипильского из «Вчера»-«3автра». «И вот, за подвиги награда!» Один не мог (остатки совести не позволили, д<олжно> б<ыть>) плюнуть, так — покачался на одной ножке и сплюнул — «Мм-да-с...» Другой, при всем желании, не мог прощупать и поставить диагноз, а «поиграл перстами». Мне смешно, но и с горечью. Да лучше бы — ни слова, либо умело разругали. А то что ж это! За работу-то мою, — за старушку обидно. Так-таки ничего и не ущупали. Ни души родимой, оглушенной и оскорбленной, затуканной... ни мотанья ее по свету, ни пу-сто-ты, ни хлада, ни окаянства жизни... ни боли-заботы и страха за дорогое-любимое, порученное (кем?!) оберечь, довести... ну, просто, тоски по святому в жизни, по Божьей правде, по «золотому зернышку», без коего вся жизнь, весь мир и все его богатства — «верчение сумашедчее». Так-таки и не учуяли... — одна шелуха, звуки да краски... да «лубочно-кустодиевская (??!!) оболочка»…! Что же это за «большая своеобразная сила»??
Г<осподин> критик — скажи! Не может? Нет, не смеет. Ибо тогда пришлось бы разворачивать все белье, что выпало Няне выстирать-разворотить. Ни слова, как будто пустое пространство. Что поймет из 18 строк читатель? А м<ожет> б<ыть> лучше: он, как умеет, сам, за критика, разберется. Лучше. Но на душе — ну, будто я «подсыщик ненужный», — в плату приявший — пинок.
Ни звука об отражении в романе — хождения-метанья нашего в вихре вселенной, разметанности нашей, «приманки» жадному миру — поглотить-смять... опоганить... ни намека на спасение наше единственно — стойкостью, единою любовью к родимому, которые сами же мы и упустили и чуть не погубили... ни чуянья якоря нашего и хранителя — простой основы жизни — душевной чистоты и правды, детской правды, первичной правды — чем жива няня, познающая мир через маленькое оконцо, свое, — через детскость и простоту свою. Не прочуяли и величин столкнувшихся: бедной, запуганной души русской — и безмерно-величественного мира, представившегося... кем, чем?!… Эх, вспомнили бы «критики»: чем и кем представлялся нам Мир — оттуда, когда-то?… И что нашли!… Ни замкнувшегося в себя, волевого, в себе носящего, без шума делавшего и делающего, молчаливого моего (правда, сознательно так данного!) Васеньку (именно, для мягкости — Ва-сень-ку — страдальца) — никак не