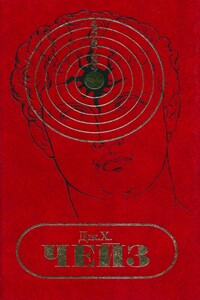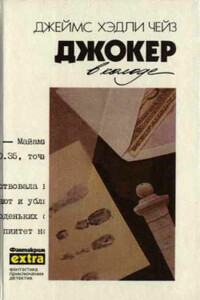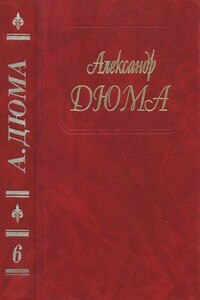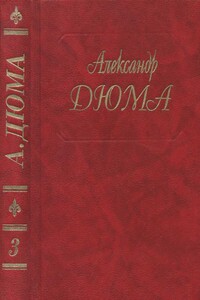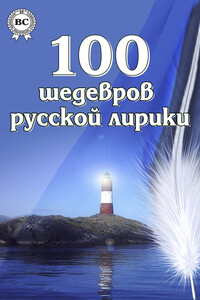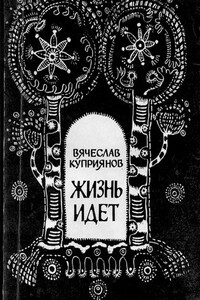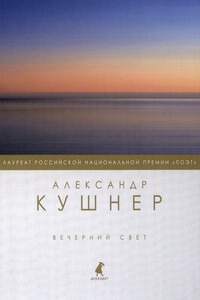Арфа Серафима: Стихотворения и переводы | страница 9
Добровольных узников боли и творческой жертвы никакими усилиями невозможно было сделать «счастливыми», «успешными» и т. д. В этом тесном круге попросту «в падлу» считалось обрести статус и равновесие, известность за пределами кружка, не дай бог, попытаться жить на гонорары. Впрочем, сейчас речь не о когорте литераторов переходной эпохи, добровольно сжигавших себя даже в те годы, когда самосожжение, протест, бегство в себя уже не были обязательными условиями сохранения чистоты голоса и репутации. Речь об Игоре Меламеде, занимавшем в этом круге совершенно особое место именно в силу приверженности не только к зелёному древу поэзии, но и сухой теории.
В середине девяностых Игорь написал несколько работ-манифестов, вызвавших жаркие споры среди тех, кто был в контексте и в курсе насущных вопросов, широко обсуждавшихся в узком круге сторонников жизни-жертвы во имя искусства. «Поэт и чернь», «Отравленный источник» и особенно «Совершенство и самовыражение» — именно эти тексты Меламеда связали воедино два корпуса проблем, которые часто рассматривались изолированно. Первый — отношение к госотодоксии и внешнему насилию, к необходимости соблюдения морального кодекса творческой свободы. Второй — об отношении различных стилистических тенденций к подлинной природе поэтического слова. Конечно, наивно и думать, что попытка сопряжения поэзии и правды была предпринята впервые, наоборот, подобные подходы реализовывались многажды и всегда по-разному — от лозунга «каждый пишет, как он дышит» до формулы «язык выражает себя через сознание и личность поэта».
И всё же попытка Игоря Меламеда совместить моральный выбор судьбы и техническое мастерство стихописания заслуживает отельного краткого разговора. Прежде всего, об этической основе творчества. У Меламеда на первый план выдвигается не только и не просто топика «ворованного воздуха», абсолютизации независимости художника. Либеральная общедоступность ведёт к усреднению норм, превращает вершины в холмы, вот почему эгалитарность вкуса гибельна, ибо ведёт к господству мнений черни. Подобные воззрения, разумеется, не новы, высказывались за последнее столетие неоднократно — от Томаса Карлейля до Хосе Ортеги-и-Гасета. Меламед пытается (и во многом небезосновательно) вывести их из известных построений Пушкина в пору полемики рубежа 1820—1830-х годов вокруг понятия «литературной аристократии». Совершенно нетрадиционно иное — приложение подобных взглядов к кодексу поведения позднего московского андеграунда.