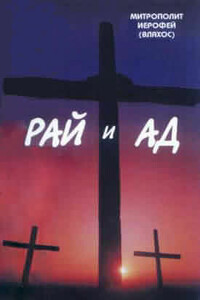Православное воспитание в контексте социализации | страница 40
Таким образом был закончен долгий период в истории российского образования, основной характеристикой которого являлась тесная взаимосвязь и взаимообусловленность православного воспитания и образования как в государственных, так и в частных учебно-воспитательных заведениях.
Глава 6. Религиозный аспект педагогической деятельности русской эмиграции первой половины XX века
Появление русской эмиграции относится ко времени первой мировой войны, когда в государствах, граничащих с Россией, обосновались на постоянное жительство первые группы российских военнопленных. Однако основная часть беженской массы из России начала формироваться после октябрьского переворота 1917 года. Гражданская война 1917–1920 гг. явилась основной причиной массового исхода наших соотечественников с родной земли.
В разных публикациях приводятся различные данные о численности русских эмигрантов, их политическом, профессиональном, демографическом представительстве. Называются цифры от 400 тысяч (121, 168) до миллиона или даже двух-трех миллионов человек (140, 66). В сборнике «Зарубежная русская школа» (51), изданном в 1924 году, указано, что численность русских переселенцев в Европе ни разу не была официально установлена какой-либо регистрацией. Детской статистики по странам рассеяния тоже практически не существовало.
В очерке «Судьбы эмигрантской школы», опубликованном в 1928 году, В. Руднев приводит свои рассуждения на эту тему: «Приходящееся на количество эмиграции в 400–600 тысяч человек число детей дошкольного и школьного возраста, если считать по обычным для России демографическим нормам, составляло бы не менее 150–160 тысяч. Для эмиграции, ввиду особых условий ее существования и большего числа среди эвакуированных холостого элемента (правда, за 10 лет уже успевшего обзавестись семьей), российские демографические нормы слишком высоки. Но даже понизив эти нормы эмиграции ровно вдвое, число эмигрантских детей в возрасте 5–18 лет придется признать равным 65–80 тысячам. Наконец, дойдя в нашей осторожности уже до крайних пределов, приняв эмигрантскую детскую норму всего лишь в одну треть российской и даже среднеевропейской, мы все же получим круглую цифру в 40–50 тысяч детей дошкольного и школьного возраста. Думается, средняя цифра в 50–60 тысяч приближается к действительной величине контингента детей в возрасте 5–18 лет в эмиграции» (119, 284).
Из множества задач, встающих перед эмигрантами, забота о подрастающем поколении выделилась как одна из самых ответственных и, кроме того, явилась тем делом, в осуществлении которого легче всего оказалось возможным объединение здоровых элементов беженства. «Клич "Спасайте детей!" раздался во многих случаях еще на пароходах, увозивших русских беженцев, и иногда организовывались добровольные группы для занятий с детьми – тут же в укромном уголке на палубе английского или французского парохода. Тотчас же по прибытии на твердую почву, под знаменем того же клича начинают объединяться случайно оказавшиеся вместе педагогические силы, организуются школы, дети разбиваются на группы и начинаются занятия от детских игр до астрономии и высшей математики. Занятия сплошь и рядом ведутся без всяких пособий, на голых камнях, часто без палаток, под палящими лучами солнца, так, например, как на острове Лемнос; но обоюдное рвение учащих и учащихся делает переносимыми эти трудности» (17, 98).