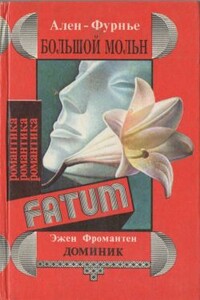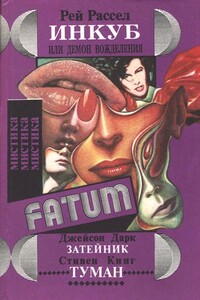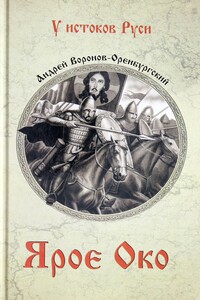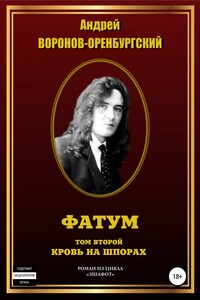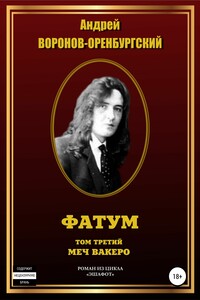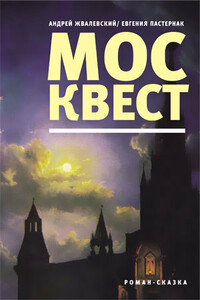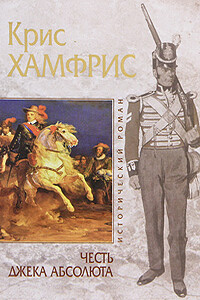Паруса судьбы | страница 30
* * *
У Петровской площади − там, где в летний сезон грудь Невы на манер портупеи перетягивал наплавной мост, что укладывался мастеровыми на шлюпы, − по зиме укладывался санный съезд.
Прохор ожалил кнутом четверку бусогривых, − стыдно барской карете в хвосте плестись. А за оконцем экипажа шум-гам да веселье − народ догуливал Рождество.
Алексей прижался к стеклу − тут и сани, тут и коньки, тут и пьяные от морозца барышни, чьи щеки маком цветут без румян, и пестрые шатры разбиты, полные снеди и вина − пей, гуляй, душа − мера!
Звенят голоса, летят русские тройки в наборных сбруях, с огненными медными бляхами и кистями с колокольцами под резной дугой коренников, с бубенцами да пестрючими лентами на шейках пристяжных.
«Эх, накатаются черти − бьюсь об заклад, зазвенят под ночь в Стрельну, к цыганам!» − с завистью подумал Алексей.
А посередине Невы-матушки в четырехаршинных ледяных сугробах, точно строй петровских гренадеров в зеленых мундирах, выставлены на погляд привозные красавицы ели. Все, как одна, в пять маховых саженей ростом да в лентах веселых и при бумажных шарах. Крутятся бесом, фыркают пламенем да искрами фейерверки с шутихами. Временами нет-нет, да и мелькнет жандармская бляха −вокруг почтительная прогалина, а за ней опять толчея: тут и бархат, и атлас, и медведь на цепи вприсядку, опоенный медовухой.
Карета князя, обгоняя прогулочную неторопливость мещанских кошевок, въезжала на Васильевский остров, когда по проезду прогрохотали кони преследователей. Будто живые клинья, рассекли они праздничную толпу, собирая проклятья, сыпавшиеся, как блохи, в хвосты их лошадей.
* * *
Когда замелькали простуженные шеренги домов Васильевского, градус настроения Осоргина резко упал. То ли сказывалось щемящее чувство скорой разлуки со всем родным и близким, желание догулять Рождество с любимой, то ли еще что… Словом, сидел он, уткнувшись носом в уютный бобровый ворот, слушал канканное перещелкивание кнута и крепко печалился.
«Вот ведь… с утра еще град Петров виделся куда как славным − лучше не хочу, а нынче…» Морщась, он стянул перчатки и, раскуривая подарок американского посла Адамса − иллинойскую трубку, задержал взгляд на оконце и помрачнел пуще. Все было не так и не этак. На узких, крепко просевших деревянных тротуарах глаз не радовал поток гуськом спешащих людей. Там старуха с клюкой при ветхой корзине, согнутая чернопудовой судьбой; там на перекрестке казенный мужик туповато горстит в раздумьях бороду до пупа. Долгополый армяк и татарский кушак выдают в нем дремучего провинциала. Придерживая треуголки, оскальзывается чиновничья рать: нотариусы иль адвокаты, один черт, судейское племя, и лица, лица, лица… И все держится нарочито независимо, дышит жаждой деятельности вперемежку с отчаянностью нищенской долюшки, с пьяной улыбкой уходящего Рождества да тревожным блеском в очах: «Что ты готовишь, год четырнадцатый?»