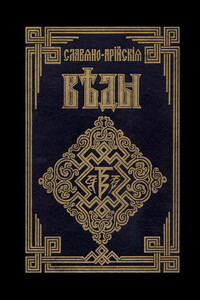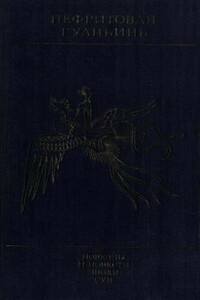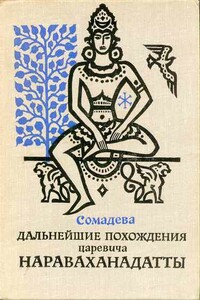Шихуа о том, как Трипитака великой Тан добыл священные книги | страница 28
Эпизод путешествия Трипитаки на небеса в плане выявления истоков сюжета рассмотрен Г. Дадбриджем, который находит ему литературные параллели: как в целом (рассказы о монахе Хун-фане), так и отдельным его мотивам (шапка-невидимка, патра, посох и т. д.) - в мировом фольклоре и в китайских произведениях (легенда о Мулине, например, и ее позднейшие разработки). Все это позволяет ему сделать справедливый, на наш взгляд, вывод о том, что, заимствуя религиозный материал, народная традиция изменяет его ортодоксальный характер, создавая на его основе совершенно новые формы[148].
В четвертой главе путники приходят к горе Сяншань и поднимаются на ее вершину в монастырь, носящий то же название. Несмотря на упоминание горы Сяншань в Записках Сюань-цззана[149], употребление этого названия в шихуа, скорее всего, - дань буддийской традиции. Представляется, что описание горы, данное в этой главе, подтверждает наше предположение: «Это была земля тысячерукого и тысячеглазого бодхисаттвы (Авалокитешвары. - Л. П.), а также место, где бодхисаттва Вэньшу (Маньчжушри) занимался самоусовершенствованием». В традиции гора Сяншань - одно из мест обитания бодхисаттвы милосердия Гуаньинь, имя же бодхисаттвы мудрости Вэньшу в шихуа соотнесено и с горой Сяншань, и с государством Женщин. По-видимому, мы здесь опять сталкиваемся с художественным, а не с ортодоксальным воплощением в народной традиции известных религиозных мотивов. Пребывание путников на горе Сяншань - определенный рубеж в путешествии: здесь заканчивается его первый, спокойный этап и начинаются те опасности, о которых предупреждены и герой и читатели. Именно здесь, в пустынном, полуразрушенном монастыре на вершине горы Трипитака думает об удивительных покое и тишине, окружающих их, но тут же слышит слова обезьяны-странника: «Не удивляйся, мой учитель, что дорога на запад спокойна. Здесь - другое небо. Впереди же у нас все время будут места, где обитают то тигры, то волки, то змеи, то зайцы; мы встретим людей, которые не разговаривают, нас ждут десять тысяч ужасов. Все дымки людских жилищ, которые попадутся нам дальше, - бесовское наваждение».