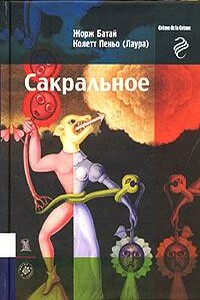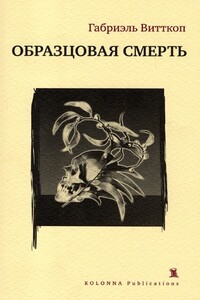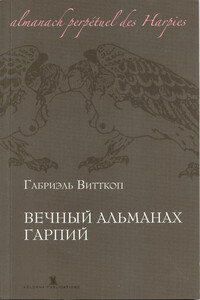Наследства | страница 35
Клод-Анри впервые в жизни увидел мертвеца, и этот мертвец выглядел жутко. Потрясение усилилось тем обстоятельством, что, сам не умея плавать, Клод-Анри провел бессознательную аналогию. Ночью, ворочаясь с боку на бок, он не мог сомкнуть глаз.
— Ну постарайся наконец заснуть, — в Раздражении сказал Максим.
— Не могу.
— Тогда вспомни Офелию… Наверное, она тоже ужасно раздулась, прежде чем войти во всемирную историю драматического искусства. А что касается этого типа, скажи себе, что в морге утопленников опознают крайне редко. Вдобавок, возможно, будет вскрытие. Кажется, все внутренние органы превращаются в фиолетово-коричневую кашу, от которой исходит тошнотворное зловоние… Офелия, да?
— Умоляю тебя!.. Чудесная тема для постельного разговора!.. Какой же ты черствый…
— Просто я не нюня, — надменно сказал Максим, после чего встал и, закутавшись в одеяло, ушел и лег на диване в мастерской.
Клод-Анри положил руку на еще теплое место. «Всего пару месяцев назад Максим проявил бы больше понимания», — подумал он.
Жану Бертену нравилось хитрить только с конкурентами, и так же, как в шахматах, он получал удовольствие от самой игры. Хотя ему приносили радость секреты и финты торговли, предприятие должно было быть еще и прибыльным, как в случае с коммерческими операциями, в которых зеленая сирена Эсмеральдина обеспечивала его своим сообщничеством. Барыши от недвижимости, напротив, не доставляли такого рода удовлетворения, и потому он считал их всего лишь Дополнительным доходом, разумеется, желанным, но не вызывавшим эмоций. Следовало быть реалистом, к примеру, в отношении арендной платы за довольно темный подвал, на стенах которого зимой проступала влага, несмотря на близость отопительного котла. Тариф поднимать нельзя.
Они приехали вместе с ободранными чемоданами, связанными бечевкой картонками и ребятишками, закутанными так, словно собрались в Арктику, и уже с тем тяжелым взглядом, что появляется у старых священников и врачей для бедноты. В недрах «Селены» зазвучали новые слова, непривычное наречье. Иногда по вечерам оттуда доносился одинокий голос, высокий, словно раскатывающееся пенье серафима. Он мог подниматься и подниматься, словно штурмуя небеса, и вновь опускаться проникновенными спиралями, плавными завитками, которые казались какими-то плотскими. У голоса был еще и запах — безрадостный аромат заснеженных улочек, лабиринтообразных кварталов, серых и закрытых. То был голос скрипки.