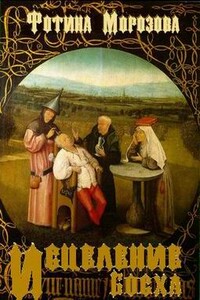Литнегр, или Ghostwriter | страница 9
«Сама себя не похвалишь — никто не похвалит, — ехидничает внутренний голос. — Кого ни послушаешь, все были гениальными дитятками. Куда же всё девалось? Почему после школы ты поступила не в институт имени Горького, не журналистике пошла учиться, даже не иностранным языкам, к которым тоже способности у тебя признавали, а варилась в медицинском соку, пока не докатилась до этой сомнительной профессии — литнегр?»
Возможно, дело в здоровье. Родилась я с дыркой в позвоночнике, через которую выступает наружу спинной мозг. Спина бифида — так это называется — нередко оставляет людей полностью парализованными, однако меня в трёхмесячном возрасте удачно прооперировали, а дальше нарисовалась масса спинобифидных последствий, от которых нормальный человек, натурально, сдох бы — если бы не моё несокрушимое здоровье. От инвалидов привычно слышать сетования, что диагноз помешал заниматься любимым делом, а со мной вышло по-другому: много, слишком много физических возможностей оказалось у меня! Если бы я могла управлять одним лишь большим пальцем на левой ноге, то имела бы право настукивать этим указательным пальцем на машинке (а позже на компьютере) всё, что хочу. Но я была способна передвигаться, пусть в ортопедических ботинках и с тростью, вполне владела руками, а значит — какая ещё литература? Надо заниматься серьезным делом. Медициной, например. Когда-то она спасла меня, теперь я должна вернуть долг — помогать другим больным. Надо наконец жить настоящим и по-настоящему. В таком мире, каков он на самом деле есть.
Влечение к литературе казалось, наряду со спина бифида, тем, что следует преодолеть. Врождённым дефектом, который не помешает мне жить нормальной жизнью. Выползай из раковины, в конце-то концов!
В институте я училась на круглые пятёрки: сначала с перепугу (на первом курсе казалось, что если я недоучу даже какую-нибудь пустяковину, меня выгонят с позором), потом — по инерции. Каждый, хоть одним глазком заглядывавший в атласы по анатомии и гистологии, представляет степень необходимой для этого зубрёжки. Ясное дело, зубрёжка была! И даже если прежнее брало верх, я, ведомая чувством долга, откладывала общую тетрадь, в которую происходила фоновая литературная секреция, и усаживалась за мышцы и связки.
И всё-таки литературная часть меня не сдавалась. Она окрашивала в приманчивые тона библиотеки и придорожные лотки, полные увлекательных книг, которых в конце восьмидесятых — начале девяностых появилось просто убийственное для всего, кроме чтения, количество. Она форменным образом затопляла мозги, в которых оставалось не так уж много места для «Архива патологии»: ведь закончив институт я поступила в аспирантуру по специальности «патологическая анатомия» (наиболее терпимая для меня из всей медицины, потому что не надо лечить больных, которых я, как выяснилось в процессе обучения, боюсь). Но я еще удерживала свою по-детски беспардонную и требовательную часть-игру в жестких рамках — вплоть до одного утра.