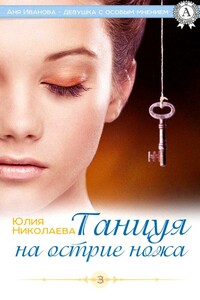Нарисуй мне любовь | страница 56
— Зато теперь можешь себе позволить все, что хочешь.
— Это, конечно, аргумент, — усмехнулся Илья. Посерьезнев, спросил:
— Могу и я задать вопрос?
Я встретилась с ним взглядом, и что-то подсказало мне, вопросы будут личного характера. Но все же ответила:
— Попробуй.
— У тебя было много мужчин?
Я почувствовала, что краснею.
— С Гарри пять. Но первые три очень давно.
— То есть ты с этим своим любовником много лет?
— Шесть.
Очень странный разговор, Рогожин взглядом в душу лезет просто, а я не могу его послать, и отвечаю.
— И кроме художника, значит, не изменяла?
— Нет.
Кивнув, Илья уставился перед собой, а мне даже легче стало. Что ж так колбасит-то?
— Любишь его? — и снова взгляд в упор, резкий, прямой, пронизывающий. Под таким не соврёшь, как ни пытайся. И я ответила:
— Не знаю. Что такое любовь? Я в неё не верю.
Рогожин в удивлении вздёрнул брови.
— Необычный ответ для молодой девушки. Родители не прививали все самое лучшее?
— Я детдомовская, — ответила резче, чем хотела. Разговор мне перестал нравиться, хотелось быстрее его закончить.
— Вот оно что. Это многое объясняет.
— Например? — скрестила я на груди руки.
— Твоё отношение к жизни и людям. Отстранённо-потребительское.
А мне стало так обидно, я даже зубы сжала, чувствуя, как подбираются слезы. Какое он имеет право сидеть тут и покровительственным тоном рассуждать обо мне? Делать выводы на основе своих измышлений, равнодушно прикладывая словами. Он-то с рождения обласкан, с ним носились, как с сокровищем, а вырос эгоистичный хам. И не ему мне высказывать. Он не знает, каково это расти брошенкой с рождения, не понимая, почему именно с тобой судьба так обошлась. Зная, что где-то есть женщина, которая родила тебя и выкинула. Где-то есть мужчина, которого я могла бы назвать папой, сильный, он бы оберегал меня от зла. Но их не было со мной, они были где-то, и возможно, счастливо смеялись и радовались жизни, пока я росла, всеми силами стараясь не оскотиниться. А это было трудно. Очень трудно.
Тети и дяди приходили в детский дом, смотрели на нас и уходили. Иногда возвращались, но везло всегда кому-то другому, не мне. И лет в семь я поняла: меня никогда не выберут. И когда они приходили, я начинала вести себя плохо, чтобы не взращивать тщетных надежд. Я знала: не понравлюсь сразу, не будет слез потом. И грубила, кричала, капризничала. И никто за этим не разглядел крика об одиночестве, крика маленького запутавшегося человека, который уже сейчас бьет себя, колет в рану, чтобы научиться не чувствовать ту боль, что каждую секунду выворачивает наизнанку.