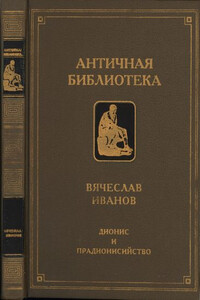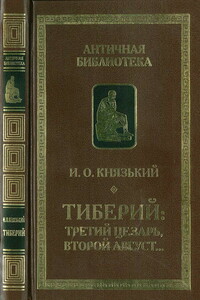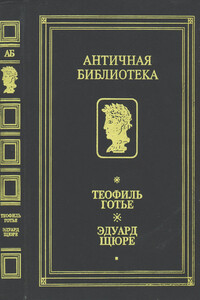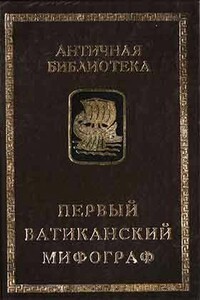Личная религия греков | страница 75
Можно сразу увидеть последствия, которые подобное учение способно иметь для религиозной позиции человека. Нам следует вникнуть в проблему более основательно.
Давайте смело признаемся, что подчас трудно принять веру в божественное Провидение, в Бога, который любит людей и жалеет их в их страданиях. Вот почему раньше всего у греков возникло представление о том, что боги безразличны к бедам человеческим и даже находят удовольствие в созерцании их. Трудно найти что-то более меланхоличное, чем греческий пессимизм; в этой связи я напомню тексты, собранные профессором Грином из Гарвардского университета.[246] По этой же причине греки эллинистического века очень остро ощущали, что всем в этом мире управляет слепая Фортуна или неумолимая Судьба. Такова спонтанная реакция обычного человека.
Христиане и стоики одинаковым образом отвергают эту реакцию и равным образом признают реальность божественного Провидения. Интересно было бы проанализировать, что они имеют общего и в чем различаются.
Общей для них является идея, которую предчувствовал уже Платон, а именно, что пессимизм фиксируется лишь на каком-то небольшом фрагменте всего Целого и тем самым, пребывая в ослеплении и замешательстве относительно частичной дисгармонии, воздействующей на его приверженцев персонально, ему не удается увидеть закономерность Целого. Спасение же, как для христиан, так и для стоиков, состоит в решительном отбрасывании от себя своего чисто личного сознания. Мы должны выйти за пределы наших индивидуальных «я», забыть о личных страданиях и заметить красоту Целого. Поступив таким образом, мы поймем, что то, что мы рассматривали как беспорядок и принимали как универсальное, по причине того, что мы сделали самих себя центрами вселенной, в реальности ведет к более высокому порядку, утрачивает себя в этом порядке и становится частью его. Представим, что есть некая горная долина, всегда покрытая туманом, и там живут люди, никогда не покидавшие ее. Тогда они должны твердо верить, что вся земля — темное и несчастное место; но если бы они взобрались на горные пики, окружающие эту долину, они бы увидели, что солнце делает мир более светлым.