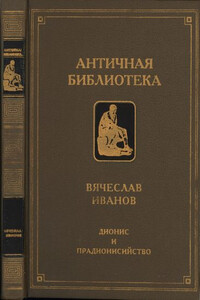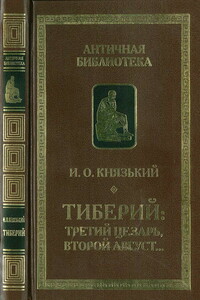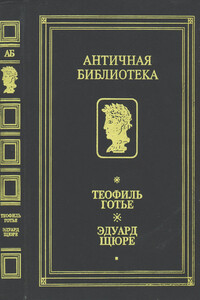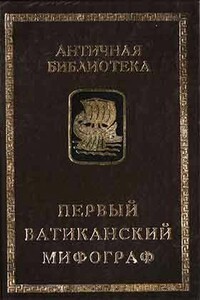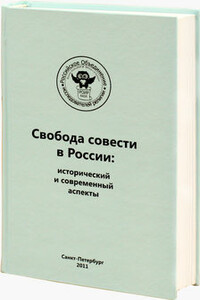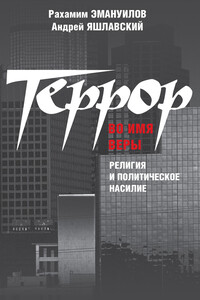Личная религия греков | страница 34
Именно такими, мне кажется, были интеллектуальные шаги, которые привели Платона к его учению о мироздании . Он не отверг теорию идей ; он снова упоминает ее в Тимее, а ведь великие метафизические диалоги, Парменид и Софист, где он заново проверяет, критикует и корректирует эту теорию, написаны почти в одно время с Тимеем. Он ничего не потерял, но только приобрел. Неослабевающая любознательность позволила ему усвоить последние открытия своего друга Евдокса и своего ученика Каллиппа. Мысль Платона, находящаяся в постоянном поиске, пыталась совместить эти открытия с решением тайны человека, его места во Вселенной. Такое обогащение платоновской доктрины имело важные последствия как для собственно теологии, так и для личной религии.
Возьмем для начала теологию. Платон, подобно многим своим современникам, сознавал упадок олимпийских божеств. Также он видел и то, что афинские юноши испытывали глубокий духовный и нравственный кризис. К недовольным словам молодого человека из Законов (кн. X) следует относиться со всей серьезностью. Он не верит больше в традиционных богов. Не верит он и в Провидение. Но государство, в том виде, в каком его воспринимали древние, не может обойтись без религии. Древнее государство — не «секулярное». Это ведет Платона к признанию существования проблемы Бога и построению того, что может быть названо первой философской теологией.
Неизвестный Бог, этот океан, эта непостижимая бездна, к которой мы приближаемся в конце восхождения, описываемого в Пире и Государстве, не может быть полисным божеством, т. е. универсально признанным объектом общественного полисного культа. Это Скрытый Бог. Знание о нем, которое может быть достигнуто посредством некоего сверхъестественного опыта, требует долгого внутреннего приготовления, на которое немногие способны. И даже редкий человек, который способен приблизиться к нему, должен совершать этот путь в уединенности и тишине своей монашеской кельи, словно покидая город. Наконец, такого Бога невозможно себе представить. Никакому изображению его не может поклоняться сообщество, никакому образу его город как отдельная единица не может обращаться с молитвой и жертвами. Какой же в таком случае должна стать религия, этот духовный фундамент города? Отсюда перед философом-правителем возникает двойственная задача. Во-первых, он должен сохранить идею Бога и идею божественного провидения. Во-вторых, он должен принести в город вообще и горожанам в частности новые божественные объекты. Книга X Законов дает решение первой потребности. Ответ на вторую находится в Послезаконии, произведении, которое я, наряду с А. Э. Тайлором и другими,