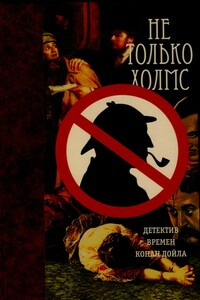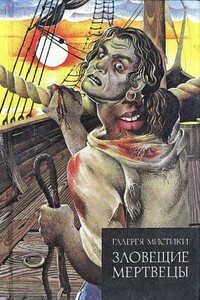Король в жёлтом | страница 37
Я принадлежу к более старшему и бесхитростному поколению, которое не любит искать психологических тонкостей в искусстве. В музыке мне всегда было достаточно гармонии и мелодии. Теперь же в хаосе звуков, летящих от инструмента, звучало нечто большее. Музыкант жал на все педали по очереди, словно силился бежать, и бил руками по клавишам. Бедняга! Кто бы он ни был, надежды на побег у него не было.
Раздражение быстро сменилось во мне гневом. Что он делает? Как он смеет играть такое посреди службы? Я посмотрел на сидящих рядом со мной – казалось, никто из них не был встревожен. Спокойные лица коленопреклоненных монахинь, все еще обращенных к алтарю, сохраняли отрешенное выражение под белыми головными уборами. Хорошо одетая дама рядом со мной с ожиданием следила за епископом С… Судя по ее лицу орган сейчас должен был играть «Ave Maria».
Наконец проповедник осенил всех крестным знаменем, призывая к тишине. Я с радостью повернулся к нему. До сих пор я не обрел в церкви Святого Варнавы того, за чем сюда пришел в тот день. Я был измотан после трех дней физических страданий и душевного растройства, причем последнее было хуже первого. Измученное тело и расщепленный, все еще болезненно чувствительный рассудок я принес в свой любимый храм, чтобы исцелиться. Потому что я прочел «Короля в желтом».
– «Возсия солнце и собрашася и в ложах своих лягут»[16], – торжественно произнес Монсеньор, кротко оглядывая собравшихся.
Сам не знаю почему, я скосил глаза к западной галерее. Органист вышел из-за своих труб, и я увидел, как он исчез за маленькой дверцей на лестницу, ведущую прямо на улицу. Это был стройный человек, лицо у него было настолько же белым, насколько черным – его сюртук.
«Скатертью дорога с твоей гнусной музыкой! – подумал я. – Надеюсь, хотя бы помощник закончит играть как следует».
С чувством освобождения, с невероятным глубоким облегчением, я повернулся к доброму лицу за кафедрой и устроился поудобнее, чтобы послушать его. Вот, наконец, я выброшу все из головы, как и хотел.
– Дети мои, – сказал проповедник. – Одной истине человеческая душа учится труднее всего: ей нечего боятся. Но невозможно заставить человека поверить, что ничто на свете не может причинить ему вреда.
«Любопытная теория в устах христианского епископа, – подумал я. – Посмотрим, как он сумеет ее примирить с догматами святых отцов».
– Ничто не может повредить душе, – продолжал он ровным, ясным тоном, – потому что…