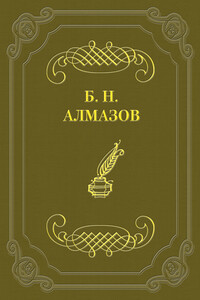Из творческого наследия. Том 2. Теория, критика, поэзия, проза | страница 19
Так поступил Вадим Шершеневич>24, следуя примеру своего альтер эго – Константина Большакова>25. Шершеневич был, не в пример прочим, человеком образованным и начитанным: он, по-видимому, первый прочел Маринетти, чьи манифесты тому времени были напечатаны по-французски у Сансо>26, за счет автора, раздарены с нежными надписями по всему Парижу, и их бесчисленные экземпляры покрывали Сенскую набережную>27 в течение целого сезона. Провинциальная затея не могла иметь успеха в столице, но в провинции, какой являлась Россия, еще не признанная официально за колонию (это было в будущем и на то потребовались героические усилия русских патриотов), дело пошло.
Тем более, что надо было новизны и перемены во что бы то ни стало. Жизнь развивалась с такой быстротой, что даже продолжатели Андрея Белого в «Лирике»>28 чувствовали в этом потребность; по признанию одного из них, в будущем ясно обозначались дыра и труба.
Культ скорости, провозглашенный Маринетти, быстро был усвоен молодежью, а также и новой аудиторией. Начался медовый месяц футуризма. Ругать его переставали даже в толстых журналах кадетов, а публика раскупала любую макулатуру с его штампом. Авто-хозяева и автопоклонники понимали прелести динамизма: это, впрочем, было единственное из проповеди Маринетти, нашедшее себе применение в русской, так называемой футуристической лирике. Впрочем, она не только не следовала законодателю Миланской школы, но и находилась с ним даже в вопиющем противоречии>29.
Действительно, боевым лозунгом лиризма итальянского севера, переживавшего буйный и менее искусственный, чем в России, промышленный подъем, было отрицание всякого архаизма и даже всякого пассеизма, в чем бы и где бы он ни выражался. Хлебников был до последних пределов архаичен и по языку, и по привязанности к древнерусским сюжетам, и по преданности истинно русскому синтаксису. Деревенские мотивы были запрещены итальянцами: они преобладают у Хлебникова, процветают у Игоря Северянина и украшают творчество поэтов Центрифуги>30 – издательства, основанного левой группой «Лирика» и ставшим оплотом позднего вида русского футуризма. Любовные мотивы были очень энергично отвергнуты учениками Маринетти, и читатели Лачербы>31 могут вспомнить открытое и коллективное письмо Маринетти, Карра и К‑о, обращенное к Арденго Соффичи, заподозренному в такой ереси, хотя он непосредственно и не писал про любовь, а только про меланхолию. Весь наш футуризм, за единичными исключениями, сплошь эротичен. У позднего футуриста С. Боброва любовная лирика иногда уступает место философии: для итальянского движения это означало попасть из огня в полымя, метафизика была предана позору наравне с любовью, природой и архаизмом. Междометие, которым так широко пользовались миланцы, заполняя им целые четверостишия (Нодье кстати сказать, составлял из этого рода речений целые главы), было принято в обиход только Вадимом Шершеневичем и то эпизодически, и то в 1915 году, когда идеология русского футуризма совершенно обнаружила свою оторванность от кузенов.