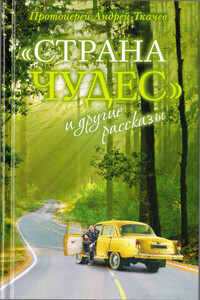Статьи и проповеди. Часть 2 (04.12.2008 – 28.10.2010) | страница 63
Так, между прошлым и будущим, между людской толчеёй и одиночеством, колдуя над словом и стимул для творчества находя в зализывании собственных ран, живёт тот, кто в семнадцать лет впервые срифмовал «ушла» и «нашла». И кому это надо, скажите на милость?
Нет, стихи юности надо сжигать, чтобы со спокойной совестью переквалифицироваться в управдомы. Их нельзя не писать, стихи. Они неизбежны, как детские болезни. Но делать их ремеслом и предлагать себя истории в качестве кандидатуры в гении не стоит. Если история и её Хозяин остановят свой выбор на вас, то никому до конца не будет понятно, плакать о вас или спешить с поздравлениями.
Однозначно то, что, невзирая на уникальность прижизненного опыта, после смерти Ахматова и Пастернак уже не требуют, чтобы о них говорили возвышенно и шёпотом. Они требуют православной молитвы «о упокоении душ усопших рабов Божиих Анны и Бориса».
Об остальных можно мыслить по аналогии.
Рождество Христово: «до» и «после» (6 января 2010г.)
В разных культурах слово о Рождестве соединено с разными трудностями. Слово вообще рождается трудно. А если нужно родить слово о Слове, Которое родилось от Девы, то немоты можно ожидать от самого говорливого. Сам дай мне слово, Слове Божий, да и в этом году прославится нами Твоё Пришествие в мир.
Мы имеем счастье быть окутанными христианством и имеем хамство этого не замечать. У нас разговор о Рождестве как будто лёгок и привычен. А вот попробуйте сказать о воплотившемся Боге, находясь внутри индуистской культуры, у которой сотни тысяч богов. Эти боги являются среди людей постоянно, они способны к бесчисленным воплощениям и развоплощениям. И не нужно ехать в Индию, чтобы об этом узнать — можно побеседовать хотя бы со знакомым кришнаитом славянского происхождения.
Между тем, христианская весть о воплотившемся Боге уникальна и ни к чему не сводима. Вся грандиозность события заключается именно в том, что речь идёт о Боге Израиля, о Боге Ветхого Завета, со всеми теми Его качествами, которые мыслятся с непременным страхом. Это Бог, могущий всё, то есть всемогущий. Это Бог вечный, всезнающий, не безразличный к человеку, умеющий как любить, так и наказывать. Ему служат Солнце и Луна. Его Престол, закрывая лица, окружают Херувимы. В травинке видна Его премудрость, а в горных хребтах и морских глубинах очевидно Его всесилие. И именно Он родился в пещере от Девы.
Если мысль мечется между небом, которое есть Престол Божий, и землёй, которая есть подножие ног Его (Мф. 5, 33-34), если мысль пытается удержать в памяти всё, что знает о великом Боге, и соединить эту память с Дитём, положенным в ясли, то нельзя не изнемочь человеку. Человек тогда опускается на колени, точь-в-точь как волхвы на бесчисленных средневековых картинах. Человек не приносит дары и не держит в руках ни ларца, ни посоха. Он просто стоит на коленях перед Младенцем и Девой. Возможно, он уже и не думает, но созерцает. Рождество — именно праздник, требующий вначале размышления, затем усталости от последнего и перехода в созерцание. Это глубокий праздник, и над ним нужно стоять, как над колодцем, в котором ночью отражаются звёзды. Отсюда всё праздничное умиление и вся тишина Сочельника. И даже громкий смех детей и взрослых на святках — не более чем разрядка для души, немного уставшей от громадности чуда.