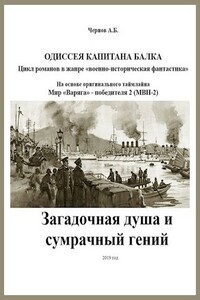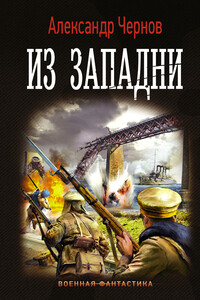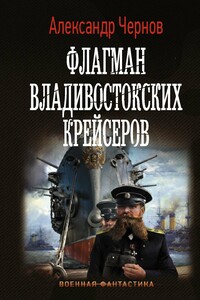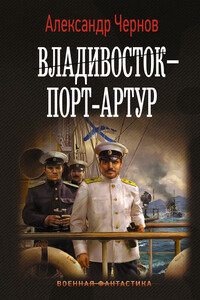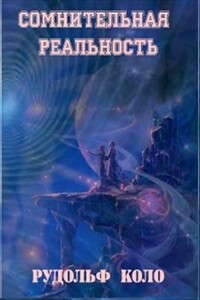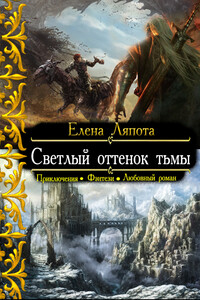Берлин — Париж: игра на вылет | страница 80
Конечно, исход войны на востоке показал, что русская армия вовсе не „колосс на глиняных ногах“, как ранее представлялось кое-кому в БГШ. Но разве Гриппенберг и его предшественник за год с лишним хоть разок смогли решительно разгромить японскую армию, обученную и вооруженную по германскому образцу десятилетней давности? Нет. Ничего похожего на Седан царские стратеги не создали за всю войну. Так что пиетета у берлинских генштабистов по отношению к русской армии не шибко прибавилось. Их вера в гениальность Шлиффена и безупречность его плана не поколебалась ни на йоту: после анализа сухопутной кампании на Дальнем Востоке они не изменили в нем ни пункта…
Генератором неизбежного конфликта в здешней властной верхушке скорее станет вопрос не столько профессиональный, сколько мировоззренческий. Если для обычного человека дилемма „что лучше при прочих равных: мир или война?“ наверняка решится не в пользу стихии Марса, то для значительной части прусского генералитета и офицерства исчезновение „запаха будущих баталий из форточки“ легко может обернуться душевной драмой. И внешнеполитический триумф их императора будет восприниматься вопиющей несправедливостью. Причем, по отношению, как к ним, так и к армии вообще.
Почему? Дело в том, что для представителей прусского воинского сословия высшим смыслом бытия является не единственно служение королю и отечеству. Таким смыслом, предопределенным догматами офицерской чести и достоинства, была и остается для них сама война. А наивысшим личным счастьем — вожделенный „Железный крест“, которым кайзер награждает исключительно в военное время.
Так что, как это ни грустно, но приходится согласиться с мнением нашего „деда“, читавшего в „Консерватории“ курс лекций по военной психологии, а задолго до этого, еще при Хрущеве, пять лет прослужившего в атташате в ФРГ: в ауре, исходящей от этих персонажей, действительно есть что-то патологическое.
Скорее всего, он был прав и когда утверждал, что в основе такого коллективного сознания юнкерства лежит не столько „культ казармы Старого хрыча Фрица“, сколько „рудимент психики“ из эпохи странствующих рыцарей, банд наемников-ландскнехтов и тевтонских „гостевых“ походов на язычников.
Вдобавок к этому всему — рафинированный, махровый милитаризм, его-то мы здесь и наблюдаем. Он зиждется на твердокаменной убежденности военных в их непреложном, естественном праве на общественное доминирование. Де факто подчиненное положение по отношению к ним как политиков, так и дипломатов, тем паче не имеющих за спиной действительной армейской службы, здесь в порядке вещей. И никого не удивляет. Ибо выше меченосцев только сам король, которому принесена их личная присяга. Или, вернее, он первый среди равных. Как там, у незабвенного Владимира Семеновича?